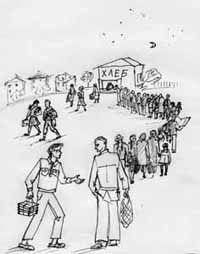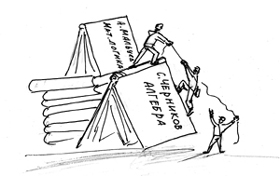|
"Маленькие рассказы о больших ученых"
100-летию Николая Михайловича Амосова,
110-летию Сергея Алексеевича Лебедева,
90-летию Виктора Михайловича Глушкова
посвящается:
Юбилейный сборник избранных публикаций Н.Амосова, С.Лебедева, В.Глушкова и воспоминаний современников
ТОВ "Видавництво "Горобець", 2013. -400с: 140 ил. ISBN 978-966-8508-42-4.
© Б.Н.Малиновский, 2013
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, Бог изобретатель...
А.С.Пушкин, октябрь-ноябрь, 1829.
|
Человек, который пришел из будущего
Лидеры - двигатели прогресса, двигатели мира
Н.М.Амосов
"Der Mann, der aus der Zukunft kommt" (человек, который пришел из будущего) - так озаглавила опубликованное в апреле 1969 г. интервью с В.М.Глушковым берлинская "Neues Detschland". Газета "Вашингтон пост" в середине 60-х годов ХХ века окрестила академика Виктора Михайловича Глушкова "царем советской кибернетики". Потом его переименовали в "Бога советской кибернетики". Прозвища во всех отношениях неудачные, ибо на самом деле Глушков был "ни царь, ни Бог и не герой". Он был типичным представителем своей эпохи, когда уверенность в том, что человек "своею собственной рукой", вооруженной силой науки, может добиться всего, была своеобразной религией.
Меньше всего люди этой эпохи послевоенного возрождения, символом которой стал первый в мире спутник Земли, думали о том, чтобы добиться чего-либо для себя лично. Они, если уж и мечтали, то мечтали о том, что "и на Марсе будут яблони цвести". Меньше всего в их мечтах было пустого прожектерства и благодушной маниловщины. Нередко даже самая фантастическая мечта становилась для них жизненной программой, а действуя сообразно этой программе, они достигали результатов, которые далеко превосходили самые фантастические мечтания.
Первые шаги в жизни и науке1
Родился я 24 августа 1923 года в Ростове-на-Дону... ...В 1931 году, когда мне исполнилось восемь лет, я поступил в школу. Учеба давалась мне без большого труда, так как еще с первого класса я привык прочитывать учебники заранее. Поэтому после занятий в школе мог заниматься своими делами. В третьем классе увлекся зоологией. Прочитал книгу Брэма о животных, стал изучать их классификацию. В четвертом классе меня заинтересовали минералогия и геология. Отчасти этому способствовал отец...
...Отец был страстным радиолюбителем и приобщил меня к этому... Я смотрел, как отец паяет, слушал радиопередачи и уже летом между четвертым и пятым классами начал сам делать радиоприемники. Причем меня уже не удовлетворяло слепое повторение известных схем, я начал изучать книги сначала для радиолюбителей, потом по радиотехнике. И когда пошел в пятый класс, то уже стал делать радиоприемники по собственным схемам. Следует сказать, что в этом большую роль сыграли научно-популярные журналы, такие как "Техника молодежи", "Знание и сила", которые в то время были очень интересными. Не помню, в каком из них, увидел конструкцию электропушки с тремя соленоидами и лепестками-держателями, между которыми зажимался стальной сердечник - снаряд. При включении пушки снаряд пролетал первый соленоид и размыкал контакты, через которые подавался электрический ток. Затем он влетал в следующий соленоид и т.д. Я сделал пушку точно по описанию, и она работала, но плохо, потому что механические контакты зажимали снаряд сильнее нормы. И тогда мне удалось сделать первое изобретение - систему управления полетом снаряда... и моя пушка заработала лучше, чем описанная в журнале. Это окрылило меня и подтолкнуло к мысли сделать прицельное устройство для определения угла поднятия ствола пушки.
Для устройства прицеливания понадобился расчет кулачково-эксцентрикового механизма. Я понял, что нужны математические знания. Математика необходима была и при решении другой проблемы - точного расчета силы тяги и динамики полета снаряда. Эти задачи решаются методами дифференциального и интегрального исчисления, требуют очень тонкого понимания физики твердого тела, магнетизма. Это были первые задачи, которые я сам себе поставил. Тогда я учился в пятом классе. С тех пор я приучил себя не просто перелистывать книгу и извлекать знания неизвестно для чего, а обязательно под определенную задачу. Трудная задача требует, как правило, самых разнообразных знаний. В чем преимущество такого метода усвоения знаний? Когда вы просто читаете книгу, то вам кажется, что все поняли. А на самом деле в памяти почти ничего не отложилось. Когда читаешь под углом зрения, как это можно применить к своим задачам, тогда прочитанное запоминается на всю жизнь. Такому способу обучения я следовал всегда.
Когда я понял, что моих математических знаний не хватает, то раздобыл учебник по дифференциальному исчислению и "Аналитическую геометрию" Привалова и составил план занятий на лето (перед шестым классом). Стал заниматься алгеброй, геометрией, тригонометрией по программам до десятого класса включительно. В шестом классе изучил дифференциальное исчисление и уже мог составлять уравнения кривых, дифференцировать функции и пр. Летом между шестым и седьмым классами занимался математикой по университетской программе. Учась в седьмом классе и за лето до начала восьмого, решил (я не знаю математика, который бы это сделал) все примеры из задачника Гюнтера и Кузьмина, рассчитанного на студентов университетов, с очень трудными задачами. Мне хотелось, чтобы не оставалось ничего непонятного. Начал изучать сферическую тригонометрию и открыл для себя небесную механику...
...Хорошо помню, что еще в пятом классе мы с отцом сделали примитивный телевизор и принимали передачи из Киева, где была единственная в Советском Союзе телестудия, но это было не нынешнее телевидение, хотя в то время было очень интересно видеть хоть какое-то изображение.
В восьмом классе мне попалось описание управляемой по радио модели корабля, и я попытался ее сделать...
...Поскольку физически я был развит довольно слабо, то начал активно заниматься физкультурой. К десятому классу у меня были очень хорошие результаты. Например, я почти на свой рост прыгал в высоту, научился плавать. Причем сначала чуть не потонул из-за близорукости - не разглядел и бултыхнулся туда, где глубоко, ну и пошел на дно. Меня вытащили и откачали. Это мне не понравилось, и я решил научиться плавать. Отец меня несколько раз пытался научить, но у меня ничего не получалось. Вообще по натуре я заочник и не люблю, когда кто-то помогает. Что же я сделал? Вспомнив закон Архимеда, я понял, почему у меня не получается: голову держу высоко. Как только я погрузился настолько, что лишь выглядывал нос, то сразу поплыл...
...В восьмом классе у меня возник интерес к философии. Первая книжка, которую я прочел - "Материализм и эмпириокритицизм". Естественно, мне ее было читать довольно трудно в том возрасте. Но я не успокаивался до тех пор, пока ясно не понимал каждый термин. Перед десятым классом я прочел "Историю философии" и "Натурфилософию" Гегеля...
...До восьмого класса литература была далеко не любимым предметом, затем я увлекся не только прозой, но и поэзией. И к десятому классу знал очень много стихотворений. Один раз выиграл спор (уже после десятого класса), что смогу десять часов непрерывно декламировать стихи. Я знал наизусть всю поэму Маяковского "Ленин", "Фауст" Гёте. Фауст мне нравился необычайно, потому что в его образе раскрывается романтика познания, что для меня тогда было самым главным. Много знал стихотворений на немецком языке, в основном Гёте, Шиллера, Гейне, кроме того, любил Брюсова и Некрасова...
...У меня было какое-то образное мышление, геометрическое что ли. Вот читаю, что Д'Артаньян вышел с такой-то площади и повернул на какую-то улицу и навсегда запоминаю, что с этой площади начинается эта улица. А после у меня всегда возникало желание посмотреть, как это на самом деле. Я находил в энциклопедии или в атласе карты городов и проверял свои представления. Снова-таки, если вы будете просто смотреть на план города, вы его не запомните, но поскольку я прослеживал маршруты литературных героев, то планы городов сразу запечатлевались в памяти. В 1966 или 1967 году, попав в Мадрид, я легко ориентировался в нем. Это же могу сказать и о Париже, Лондоне, Берлине и Риме...
...Я много занимался математикой, но бессистемно, по книгам, которые случайно попали под руку, стремясь решить свои задачи. С теоретической физикой получилось несколько иначе. Когда я ездил с родителями в Ростов-на-Дону, я купил там книгу Вандер-Вардера "Метод теории групп квантовой механики". Прочитав ее, я сразу понял, что с помощью уравнения Шредингера (из квантовой механики) можно, в принципе, открывать свойства разных новых веществ на кончике пера. Как это понимать? Еще нет вещества, но вы написали его формулу. Какими оно будет обладать свойствами? Каков будет его удельный вес, прозрачность, температура плавления и другие физические свойства? Это и сейчас мы еще не умеем делать. Но, в принципе, с помощью квантовой механики такие задачи можно решить. Поняв это, я загорелся голубой мечтой работать в такой интересной области. Сейчас это направление получило название квантовой химии.
Кстати, химией я также занимался довольно много. У меня дома была химическая лаборатория. Я даже пострадал от любви к химическим опытам. Один раз отравился хлором, другой - сулемой, оба - без потери сознания. Но еще тогда я понял, что надо сосредоточиваться на чем-то одном, и выбрал теоретическую физику, а точнее квантовую химию. И если бы не война, это желание, может быть, и осуществилось...
Тяжелое время
Война нарушила и мои планы. Вместо Московского университета, куда я собирался поступать на физический факультет вместе с четырьмя школьными товарищами, я подал заявление в артучилище. Однако меня не взяли, и военкомат выдал справку, что я негоден к службе в армии, но могу привлекаться к физическому труду. Я поступил в Ростовский университет. Но уже 29 сентября первокурсников мобилизовали на рытье окопов на Таганрогском направлении, а студентов старших курсов эвакуировали в Ташкент.
Рыли окопы и противотанковые рвы до подхода немецких войск. Затем окопы заняли курсанты ростовских военных училищ, а нас распустили по домам. Я поехал в Шахты. Вероятно, это был последний поезд из Ростова.
В Шахтах меня снова отправили на рытье окопов. Весной, когда отпустили домой, я поступил на работу в шахтинскую детскую библиотеку. Ростов был уже освобожден, но университет не работал. Однако в начале лета 1942 года немецкие войска прорвали фронт под Воронежем. Наши войска стали отступать, возникла угроза сдачи Шахт и Ростова...
...После возвращения в Шахты договорился со своим однокашником Игорем идти к знакомым в Касияновку, что под Новочеркасском. Там был сельскохозяйственный институт с опытным хозяйством, работу которого немцы возобновили. Знакомые Игоря спрятали нас в складе, где хранились старые тракторы, сеялки и другие машины. Здание находилось в стороне от института, но неподалеку был немецкий аэродром. Поэтому выходили из укрытия только ночью. Два месяца питались чем попало. Собирали мороженую картошку на неубранных полях, вырубали куски замерзшего мяса из найденной в поле павшей лошади. Запомнился как праздничный день, когда кто-то из студентов института принес комок гречневой каши... Во время ночных походов за картошкой разбрасывали на дорогах куски колючей проволоки. Один раз чуть не попались. Наступало уже утро, а мы не успели далеко уйти от места, где разбросали проволоку, когда на нее напоролась машина с немецкими солдатами. Нас увидели и обстреляли, но мы благополучно убежали. Если бы я не окреп физически в последние годы учебы в школе, я бы не выдержал. За эти три месяца получил болезнь печени.
14 февраля 1943 года Шахты освободили. Меня вызвали повесткой в военкомат и мобилизовали на восстановление шахт Донбасса. Большинство из них были взорваны и залиты водой. Полмесяца я работал в забое чернорабочим, потом меня перевели на инженерную должность - инспектором по качеству и технике безопасности. Во время пересменок я должен был опускаться в шахту и брать общую и по слоям пробы пластов из лав. Общий вес проб составлял несколько сот килограммов. Уголь, который я отбивал обушком, насыпался в мешки, а затем я тащил его на санках к выходу. На нашей шахте высота пластов была 50-80 сантиметров. Передвигаться и работать было очень трудно. Работали в основном солдаты из штрафных батальонов.
Пробы сдавали в лабораторию, где определяли качество угля и направление дальнейших разработок. Когда уголь грузили в вагоны, то перед их пломбированием я брал пробу на соответствие углю, что был в лаве. До войны работа, которую я делал, выполнялась бригадой из шести-семи человек. И только потом мне дали лаборантку для измельчения проб.
Обвалы случались часто, два раза попадал в них и я. Первый раз началось с того, что захрустели стойки, и меня ударила по плечу глыба угля. Проход за мной завалило. Но путь к выходу остался открытым. Я выбрался, захватив пробы и кирку. Отделался компрессом на ушибленное плечо. Во второй раз я был в штреке главной шахты, километрах в двух от входа. Кстати, тогда не было никакого учета тех, кто спускался в шахту. Когда набирал пробу в мешок, услышал взрыв и грохот, но не обратил на это внимания. Вынес мешки с пробой на вагонетку и потащил ее к выходу, на половине пути наткнулся на завал. На мои крики никто не отвечал. Просидел в завале часов восемь. Потом услышал доносившийся шум, и вскоре меня освободили из заточения.
В конце ноября 1943 года Новочеркасский индустриальный институт объявил прием студентов на теплотехнический факультет. Но мобилизованных учиться не отпускали. Лишь в декабре мне выдали паспорт в военкомате. Вначале я решил поехать в Москву. Однако, приехав туда, я понял, что это безнадежное дело - приезжих в университет не брали. Пришлось возвратиться.
Лето прожил у отца. Он работал в том же техникуме, где преподавал до войны. Все домашнее имущество погибло. Было тяжело с питанием. На шахте с продуктами было лучше. Я решил уехать в Новочеркасск, и осенью 1944 года стал студентом индустриального института.
Штурмуют не только крепости, но и теоремы
Зима была очень трудной. Жил на частной квартире, питался впроголодь. Занятия шли в аудиториях, в которых не успели вставить окна. Перебивался случайными заработками - репетиторством, разгрузкой вагонов на станции и пр. С наступлением лета устроился на работу. Наша бригада из семи человек за летние месяцы восстановила отопление в основных зданиях института, отремонтировала отопительные котлы. На следующий год я переквалифицировался на ремонт электротехнического оборудования. За эти два года приобрел специальности слесаря-водопроводчика и техника-электрика.
В первые годы учебы я стал известен как студент, знающий досконально все области математики, а также основные сочинения Гегеля и Ленина.
Учившийся вместе с В.М.Глушковым в Новочеркасском индустриальном институте Г.Н.Мокренко вспоминает:
"В бытность учебы в институте зимой 1943-1944 годов я жил в одной комнате с Виктором Глушковым, Иваном Дупляниным и Михаилом Мезенцевым.

Окна нашей комнаты выходили на дорогу, и в период боевых действий 1942 года в доме были оборудованы огневые точки. Окна были заложены кирпичом, остались лишь небольшие амбразуры. Электрического освещения естественно не было, отопления также. Амбразуры мы заделали, поставили в комнате чугунную печь, а трубу вывели в окно. Тепло было лишь тогда, когда топили. Для освещения использовали коптилку из стреляной гильзы от ПТР. Несмотря на голодное и холодное время, мы не унывали, жили коммуной. И вот здесь особенно проявились замечательные черты Виктора. Он был очень компанейским, располагающим к себе своими знаниями, эрудицией, простотой, а главное - титанической работоспособностью. Все вечера, а зачастую и ночи он просиживал над учебниками, особенно математическими, исписывая множество тетрадей всевозможными вычислениями и выкладками. Бывало заглянешь в его книгу, а там - сплошные интегралы, дифференциалы, в тетрадях - то же самое. Для нас это было непостижимо и трудно понимаемо. При всей его исключительно высокой теоретической подготовке, буквально по всем дисциплинам, он этим не кичился и очень много занимался".
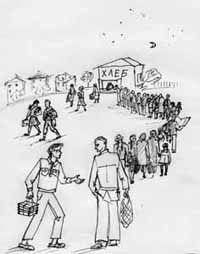
...На четвертом году обучения, когда пошли курсы по специальности, я понял, что теплотехнический профиль моей будущей работы не удовлетворит меня, и решил перевестись в Ростовский университет, где в начале войны проучился лишь месяц. Подготовившись за четыре курса по математике и физике, я поехал в Ростов.

В первый приезд мне пришлось сдать 25 или 26 экзаменов, точно не помню. (Общее их число за четыре года обучения было 44 или 45.) Я их сдал за два приезда. Помню, что в первый день (когда приехал первый раз) сдал шесть экзаменов. Три экзамена одному доценту, даже помню его фамилию - Гремятинский. Очень строгий экзаменатор, гроза всех студентов. Он задал мне три вопроса. Из каждого курса математического анализа, изучаемого на первых трех курсах, по одному, предупредив, что в случае, если не справлюсь с заданием по первому, мне нечего говорить об остальных. Я быстро сделал первое задание, причем оригинальным способом, которого он не знал. Он дал мне новые задачи и, в конце концов, поставил три пятерки.

Преподаватель физики, которому я должен был сдавать следующие два экзамена, к этому времени ушел домой. Я решил проявить нахальство и пошел к нему. Он удивился и, тем не менее, принял у меня два экзамена по физике. Последний в этот день был экзамен по астрономии. Уже к вечеру я разыскал преподавателя в институте. Начав сдавать экзамен, заметил его легкое волнение, оказывается, у него очередь подходит за хлебом. Что делать? Пошли с ним вместе. Помню, стояли мы с ним в очереди, у меня были бумаги, где я сделал все выкладки, и на все вопросы написал ответы. Он задал еще два или три вопроса, и, уже поздно вечером получив хлеб, поставил мне последнюю оценку - "пятерку". Пожевав завалявшиеся сухари, я подошел к развалинам драматического театра, где и заснул. Проснулся, когда рассветало. В этот день сдал успешно два экзамена по алгебре, а на следующий - еще четыре.
В следующий приезд сдал остальные экзамены и оказался на пятом курсе...
Учителя и наставники
В.Д.Пихорович
Неверно думать, что в учителях и наставниках нуждаются только школьники и студенты. На самом деле, и после окончания вуза нужда в чутком руководстве со стороны более опытных товарищей отнюдь не исчезает. Нужно сказать, что Виктору Михайловичу Глушкову везло на учителей. Притом, после окончания университета, похоже, даже больше, чем в годы учебы. По крайней мере, такое чувство складывается после прочтения его воспоминаний, в которых он очень тепло отзывается о своих учителях.
После окончания университета Глушкова распределили в, как он выразился в своих воспоминаниях, "в одно из учреждений, связанное с зарождающейся атомной промышленностью", но получилось так, что назначение ему изменили, и работать он начинает в качестве ассистента на одной из кафедр Уральского лесотехнического института. Здесь в Свердловске он познакомился с заведовавшим в то время кафедрой математики Свердловского университета известным советским математиком С.Н.Черниковым. Это знакомство сыграло огромную роль в судьбе В.М.Глушкова. На какой-то период оно просто поменяло его судьбу. Речь, впрочем, исключительно о его судьбе как математика. Вот как сам Виктор Михайлович описывает этот поворот в своей судьбе:
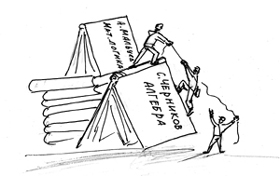
"С.Н.Черников сразу вовлек меня в свой кружок, и я стал заниматься совсем не тем, чем занимался в университете: теорией групп. Подготовленные мной три работы по теории функций так и остались неопубликованными. Безусловно, их можно было бы поместить в любой солидный математический журнал, однако под влиянием С.Н.Черникова я уже потерял к ним интерес. С.Н.Черников помог мне быстро освоить новые области математики: он был очень хорошим педагогом. Вместо штудирования учебников сразу давал конкретные задачи: сначала учебные, затем такие, которые в обычных задачниках не найдешь, а уж в конце специальные, проблемные. Занимаясь ими я быстро освоил теорию групп."
В октябре 1951 года В.М.Глушков уже защищает кандидатскую диссертацию на тему: "Теория локально-нильпотентных групп, без кручения с условием обрыва некоторых цепей подгруппы".
Нужно отметить, что Глушков всегда очень высоко ценил ту роль, которую сыграл в его жизни профессор С.Н.Черников и ту роль, которую тот сыграл в развитии математики. Именно с легкой руки В.М.Глушкова в математику вошел термин "группы Черникова". Впервые он был употреблен в обзорной статье В.М.Глушкова и А.Г.Куроша "Общая алгебра" в книге "Математика в СССР за 40 лет (1917-1957)" и прижился в науке. В 1965 г. С.Н.Черников по приглашению Глушкова, который к тому времени был уже академиком АН СССР и вице-президентом АН УССР, переехал на работу в Киев, где с этого времени и до конца жизни заведовал отделом алгебры Института математики АН УССР, одновременно преподавая курс алгебры в Киевском педагогическом институте.

В 1950 году Глушков знакомится с еще одним талантливым математиком, учеником Колмогорова, академиком А.И.Мальцевым, одним из первооткрывателей теории алгоритмических систем и теории моделей, создателем метода "описания моделей", позволившего осуществить синтез идей алгебры и математической логики, и в активе которого доказательство одной из фундаментальных теорем математической логики, известной под названием локальная теорема Мальцева.

Между ними завязалась переписка, которая длилась до самой смерти А.И.Мальцева. Под влиянием этой переписки Глушков начал серьезно заниматься теорией групп и теорией линейных неравенств, что вывело его на проблематику, легшую впоследствии в основу его докторской диссертации. Речь идет о так называемой пятой проблеме Гильберта - одной из 23 самых крупных и сложных проблем математики, сформулированных знаменитым немецким математиком Давидом Гильбертом на мировом математическом конгрессе в 1900 году и во многом определивших развитие математики в ХХ веке. Математик, решивший какую-то из этих проблем, становился величиной мирового уровня. Глушков вспоминает:
"Над пятой проблемой Гильберта, работали также американцы. Я рассмотрел один частный случай, а потом А.И.Мальцев решил одну частную задачу. Затем я рассмотрел еще один более общий, но также частный случай. Эти работы, включая мои предыдущие по нильпотентным группам, могли составить предмет докторской диссертации. Но к этому времени теория топологии стала более общей и была сформулирована обобщенная проблема Гильберта. Так вот, я решил ее, т.е. сделал больше, чем американцы. Причем решил более простым методом, который лучше подходит и для исследования обычной проблемы Гильберта."
Три года напряженнейшей работы принесли успех - проблема была решена, что позволило В.М.Глушкову не только успешно защитить докторскую диссертацию, но и приобрести известность в математическом мире. Но тут случился стремительный взлет в его жизни - он оказался в Киеве и стал директором созданного в 1957 г. Вычислительного центра АН УССР2.
1Из рассказов В.М.Глушкова, записанных журналистом В.П.Красниковым при жизни ученого. Когда его не стало, В.П.Красников передал их Б.Н.Малиновскому для подготовки книги "Академик В.Глушков" - первой посмертной публикации об ученом.
2В Киев его пригласил директор Института математики АН УССР академик Б.В.Гнеденко - на заведование переданной из Института электротехники лабораторией вычислительной техники, в которой ранее под руководством академика С.А.Лебедева была создана первая в континентальной Европе Малая электронная счетная машина МЭСМ. Через год на базе лаборатории по постановлению Правительства был создан ВЦ АН УССР.
Под редакцией Бориса Малиновского "Маленькие рассказы о больших ученых"
ТОВ "Видавництво "Горобець", 2013. -400с: 140 ил. ISBN 978-966-8508-42-4
© Б.Н.Малиновский, 2013