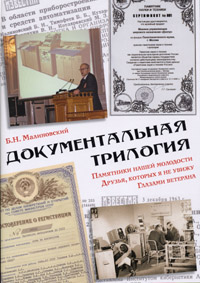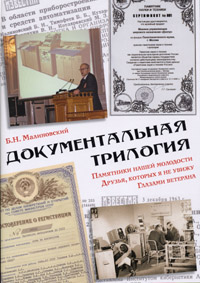 |
Памятники нашей молодости
Друзья, которых я не увижу
Глазами ветерана
ТОВ "Видавництво "Горобець", 2011. -336с: 90 ил. ISBN 978-966-2377-19-4.
© Б.Н.Малиновский, 2011
"Все дальше и дальше,
Все ближе и ближе,
Отполыхавшая юность наша,
Друзья, которых я не увижу.
Не говорите, что это тени,
Я помню прошлое каждым нервом,
Живу, как будто в двух измерениях:
В свою эпоху и в 41-м."
Юлия Друнина |
Друзья, которых я не увижу...
Северо-Западный фронт
Книга не случайно начинается с упоминания одного из множества случаев на войне, о которых обычно говорят: "чуть-чуть и...".
Война не обходится без людских потерь. Большинство из дней и ночей, проведенных на фронте, грозили мне и моим друзьям ранениями или смертью.
Из девяти фронтов, на которых пришлось быть, каждый запомнился "характером" и своими "чуть-чуть...". И все-таки два - Северо-Западный ("Болотный фронт"), Центральный (Курская дуга) и битва за Днепр более всего могли быть для меня и моих однополчан последними. На первом, на полунепроходимом болоте Сучан и расположенном рядом с ним "Рамушевском коридоре"1 под постоянным артиллерийским и минометным обстрелом, я провел лето 1942 года и зиму 1942-1943 годов - почти год. Все лето шли сплошные дожди, зима запомнилась жесточайшими морозами. Были дни, когда, казалось, от жуткого холода и постоянного обстрела нет никакого спасения.
Почти ежедневные атаки наших войск и зимой и летом (взводом, ротой, полком, всей дивизией), чтобы держать в напряжении полуокруженную 16-ю немецкую армию в Демянском котле и, с другой стороны, практически беспрерывные жестокие обстрелы нашего переднего края немецкой артиллерией, привели к тому, что если бы не трижды поступавшее пополнение, наша 55-ая, в дальнейшем Мозырьская Краснознаменная стрелковая дивизия, а это 10 тысяч солдат и офицеров, трижды перестала бы существовать. Большинство выбыли по ранению. Около 9 тысяч погибших на бескрайнем болоте Сучан лежат в братских могилах ближайших сел.2 Нашу дивизию несколько раз сменяли другие. Не исключаю, что кто-то из лежащих в братских могилах и из этих частей.
Условия боевых действий на Северо-Западном фронте были предельно суровыми. Бесчисленные болота, - а их названиями пестрела карта: Сучан, Гажий мох, Прорва и многие другие, - не позволяли построить ни настоящего окопа, ни крепкого блиндажа. Наземные укрытия в виде невысоких двойных стенок из кольев, с набросанной между ними болотной жижей вперемежку с мохом, не спасали от обстрела. Майские ливни, шедшие почти непрерывно, пропитали влагой даже возвышенные места. Почти во всех окопах и блиндажах приходилось стелить пол из кольев, под ним все время держалась вода, ее надо было постоянно отчерпывать. Ночью, если в блиндаже требовался свет, чаще всего жгли немецкий телефонный провод. Он очень чадил, и утром долго откашливались и отплевывали противную черную слизь. Помню, начальник штаба нашего дивизиона капитан Тириков, бывший учитель из Сибири, после ночи проведенной в нашем блиндаже, после основательной "прочистки" легких и носоглотки, пошутил:
- Вот имел до войны корову, хлев ей построил - светлый, высокий, чистил его каждый день. Приеду после войны, построю вот такой блиндаж и скажу: живи, милая, я жил!
За все лето 1942 года мы ни разу не мылись, и у нас завелись вши. Теперь я сам почувствовал, что это такое... Правда, к осени в тылу дивизии построили бани, и с вшами мы справились. Однако во время затяжных боев они опять начинали появляться, приходилось снова прожаривать одежду.
Осень сменила зима с сильными морозами. Но и морозы не сковали часть болот. Зная, что мы располагаемся в лесу, а не в болоте, немцы вели сильный минометно-артиллерийский обстрел лесных островков, перешейков и настилов, проходящих прямо по болотам. Огонь не был прицельным, но из-за нашей скученности на более сухих участках причинял нам большой урон. В конце декабря и начале января, когда дивизия в который раз пыталась перекрыть Рамушевский коридор, морозы усилились.
Мы никогда не теряли убитыми и ранеными столько людей, как в эти дни. На передовой наступил критический момент. Нет возможности укрыться от обстрела, согреться от лютого мороза; даже чистого снега для утоления жажды стало трудно найти. Гасла надежда уцелеть. В таких условиях теряла смысл сама жизнь, она становилась тягостной, с ней легко было расстаться, не дожидаясь осколка или пули, если расслабиться, опустить руки, сказать себе: все равно убьет... Но мысль, что такая гибель равносильна предательству, что все эти муки придется принимать кому-то другому, если струсить, сподличать, не выдержать до конца, заставляла людей все перенести, выстоять. Не зря на одной из послевоенных встреч один из переживших все это - Саша Ипполитов - сказал, что он родился дважды - как гражданин он родился именно на Северо-Западном фронте!
Посылая письмо домой, я не выдержал, захотелось, чтобы родители хоть немного почувствовали всю тяжесть фронтовой обстановки:
"...Вы, наверное, судя по газетам, думаете, что здесь боев нет - о нашем фронте сводки ничего не говорят. Но война здесь идет жестокая. Убитых немцев по высотам и лесам валяется порядком. Таких боев я еще не видывал! Черт бы побрал этого Гитлера, - свалился он нам на голову! Но мы его, конечно, вразумим! Только сегодня одни мы выпустили полторы тысячи снарядов! А бывают деньки и погорячее!"
Никогда после от нас не требовалось столько духовных и физических сил, сколько их было отдано за две недели боев на этом участке фронта.
Позднее мы научились делать укрытия в два и три наката и чувствовали себя в них в достаточной безопасности. И тем не менее, каждый раз, когда над блиндажом или где-то невдалеке друг за другом, словно пронзая сердце зловещим свистом, проносились мины или снаряды, оно тревожно вздрагивало и сжималось... При каждом разрыве блиндаж вздрагивал, как живой, с наката и стенок сыпалась земля. Минует ли следующий? Сколько вынесли за эти нескончаемые десять месяцев почти непрерывных боев сердца солдатские: ведь многие дни и ночи обстрел шел не переставая!..
Несколько раз дивизия проводила большие наступательные операции совместно с приданными и поддерживающими дивизию частями, во взаимодействии с другими дивизиями фронта, но безуспешно. Мы несли серьезные потери, особенно в дни больших наступательных операций. Одна из них была уже в преддверии зимы, когда болото и лес покрылись снегом. Мне запомнился настил, ведущий к передовой. По нему везли раненых. Некоторые из них шли сами. Настил, покрытый с утра снегом, к концу дня стал похож на окровавленное, почти километровой длины полотно.
Кроме Огурца, Лаптя, Рощи-Круглой3 и других гиблых мест на Сучанском болоте, был еще Остров Порваткина, или Остров смерти. Это место находилось на немецкой стороне болота. Небольшой кусочек территории был захвачен группой красноармейцев во главе с младшим командиром Порваткиным в первые дни наступления на Сучан. Группа Порваткина сумела построить там надежную оборону, и немцы не могли ничего сделать с ней. Но условия там были тяжелейшие. Подход к Острову смерти был возможен только ночью. Настил, тянувшийся туда по болоту, с обеих сторон был виден немецким автоматчикам, ночью он обстреливался из минометов, использующих данные дневной пристрелки.
Сам Остров смерти не случайно получил такое название: почти все, кто попадал туда, или совсем не возвращались, или попадали в медсанбат. Я ни разу не был в этом месте и только могу предполагать, что творилось на этом перерытом минами, насквозь прошиваемом пулями болотистом, поросшим лесом пятачке. О судьбе самого Порваткина мне ничего не известно. В этих случаях нам, артиллеристам, остается только склонить голову перед матушкой-пехотой...
Вести боевые действия в лесисто-болотистой местности артиллеристам было исключительно сложно и трудно. Видимость была ограниченной, чаще всего приходилось вести огонь "на слух". Танки не могли продвигаться по болоту, а на узких лесных перешейках становились легко уязвимыми. В августе, перед одним из наступлений, дивизию усилили танковой группой. Я был случайным свидетелем того, как командир дивизии Герой Советского Союза полковник Заиюльев, наставляя танкистов, сказал:
- Поможете ротам продвинуться на полкилометра - каждого представлю к Золотой Звезде!
Но из трех танков не вернулся ни один - враги подожгли их бутылками с горючей смесью на линии своих первых дзотов.
Самолеты нас поддерживали в основном в дни больших наступлений. Чаще всего это были ИЛы, самолеты-штурмовики, получившие у фашистов название "черная смерть". На бреющем полете они осыпали вражескую передовую градом пуль, производя сильное психологическое воздействие на немецких солдат. Но лес и самолетам мешал развернуться на полную мощь.
Большие неприятности приносили врагам "кукурузники". Как только наступала ночь, со всех сторон раздавалось их тарахтение, а потом на вражеском переднем крае и за ним ухали мощные разрывы бомб. И опять лес оказывался помехой: случалось, правда, редко, когда "кукурузник", не рассчитав, сбрасывал бомбу на нашу передовую. Одна из них упала возле штабного блиндажа одного из наших дивизионов и контузила начальника штаба капитана Кожевникова, лишившегося на несколько дней слуха.
Артиллерийский огонь, в отличие от оружейного, требовал коллективного труда разведчиков, связистов, вычислителей, огневиков. Он отличался еще и тем, что результаты его видели или могли оценить лишь несколько человек, находящихся на наблюдательном пункте. Очень многое зависело от командира батареи или командира взвода управления, ведущих непосредственно управление огнем, от их искусства в подготовке данных и мастерстве стрельбы. И вместе с тем огонь батареи мог быть успешным только тогда, когда солдаты и сержанты, обеспечивающие подготовку и открытие огня, выполняли свои действия быстро и умело. Стрельба прямой наводкой на Северо-Западном фронте практически была невозможной. В основном проводилась стрельба с закрытых позиций. Огневые позиции наших орудий находились в четырех - шести километрах от передовой. В этой сложной цепи управления огнем доставалось всем, но больше всех - командирам батарей, командирам взводов управления батарей, командиру дивизиона, начальнику разведки и начальнику связи дивизиона, разведчикам и связистам. Они почти постоянно находились в зоне прямой видимости или слышимости противника, так как располагались в районе командных пунктов рот, батальонов стрелковых полков. При успешных действиях их награждали в первую очередь, и это было справедливо.
* * *
Дивизия, сформированная всего полгода назад, к тому же недоукомплектованная, вступила в бой 3-го мая 1942 года и за первые десять дней понесла неоправданно большие потери.
"В ночь на 5-е и 6-е мая - рассказывает 19-летняя Галина Федько, служившая в медсанбате 228 полка, - в медсанбат стали поступать раненные. За все годы войны я не могу припомнить дней, подобных этим первым дням мая 1942 года. Медики буквально валились с ног, меня тошнило от стоявшего повсюду в воздухе запаха свежей крови, я не могла есть и не ложилась спать все эти дни... За первые три дня через медсанроту прошло 850 раненых. Это только те, кто был зарегистрирован..."
Тем не менее, в вечернем сообщении Совинформбюро за 5 мая 1942 года говорилось: "В течение 5 мая на фронте ничего существенного не произошло."
Командир дивизии генерал Шевчук за неумелые боевые действия и значительную потерю личного состава дивизии был отдан под суд военного трибунала.
Первые два года войны большая часть нашей армии только училась воевать, в том числе и наша дивизия. К тому же в это время мы были "на задворках" войны. Фасад был в Сталинграде.
Я навсегда запомнил те гиблые места, где мы находились многими месяцами, знали каждое дерево и каждую заметную кочку на болоте. В моей памяти всплывают также отдельные, более всего запомнившиеся события, боевые эпизоды и образы моих дорогих фронтовых товарищей. Многие из них пали смертью храбрых в лесах и болотах северо-запада.
Виталий Бызов
...Из комбатов нашего дивизиона мне больше других запомнился командир гаубичной батареи лейтенант Виталий Дмитриевич Бызов. Незадолго до войны он закончил институт. После мобилизации был направлен на краткосрочные артиллерийские курсы, а потом в нашу дивизию. Прекрасный артиллерист, обаятельный человек и вместе с тем очень сильный и смелый, он был всеобщим любимцем. Наблюдательный пункт его батареи находился на "Острове смерти", совсем близко от дороги, проходившей через "Рамушевский коридор". В дивизионе знали: если гаубичная батарея открыла огонь - значит Бызов услышал шум моторов на дороге. В его руках 122-миллиметровые гаубицы были мощным оружием, которым он уничтожил много живой силы и техники противника. Командир дивизиона майор Новиков очень ценил Бызова и не раз беззлобно ругал его за то, что он при обстрелах неосторожно ведет себя:
- Ты, дурака кусок, себя совсем не бережешь!
- Хотите, чтобы я фашистским минам кланялся? - отшучивался комбат. - Не желаю!
Судьба долго щадила Бызова. Но в конце лета, когда лейтенант возвращался с огневых позиций на свой НП, осколок вражеского снаряда попал ему прямо в грудь и убил наповал...
Игорь Филиппов
...Не легче, а может быть, даже труднее было командирам взводов управления батарей. Их наблюдательные пункты располагались в траншеях стрелковых рот. Во время боев на Сучане на левом фланге нашей обороны долгое время находился передовой наблюдательный пункт взвода управления, которым командовал старший лейтенант Игорь Филиппов. Трудно было представить, что этому всегда спокойному и очень мужественному командиру исполнилось только 19 лет. По поведению, по пониманию своего воинского долга он казался значительно старше своего возраста. Сколько раз Филиппов вместе с радистом и разведчиком выползал вперед за окопы своей пехоты, чтобы пристрелять цель, невидимую с его НП! Это был воистину труженик переднего края! Рядом с его блиндажом всегда стоял готовый к немедленной стрельбе станковый пулемет, - Филиппов отлично владел им, - и ротные пулеметчики доверяли ему так же, как своему командиру. Один раз, когда Филиппов во время очередной вылазки уже заканчивал пристрелку, показались солдаты противника. Они, видимо, заметили выползших в нейтральную зону трех храбрецов и решили захватить их живыми. Десятка два немецких солдат, прижимаясь к земле, ползли со стороны вражеской обороны. Вовремя их увидев, Филиппов тут же послал по рации команду на батарею и точным огнём рассеял гитлеровцев, оставивших в панике несколько убитых и раненых. Сам же он и сопровождавшие его красноармейцы благополучно вернулись на наблюдательный пункт.
Погиб Филиппов во время одного из самых тяжелых боев на Сучане. Это случилось 21 сентября 1942 года, когда гитлеровцы предприняли тщательно подготовленную наступательную операцию против нашей дивизии. Последним Филиппова видел командир отделения связи взвода управления, прибежавший на наблюдательный пункт, чтобы исправить связь. Филиппов, по его словам, вместе с несколькими бойцами стрелковой роты участвовал в отражении вражеской атаки, стреляя из пулемета "до последней возможности":
"А мне почему-то кажется, что я так и останусь на Сучане"
...Начальник связи нашего дивизиона двадцатитрехлетний лейтенант Трегубов, прибывший в 55-ю дивизию вместе с пополнением, обеспечивал подразделения связью в самые тяжелые моменты. Под любым обстрелом Трегубов выходил на проложенные по болотам телефонные линии и вместе с бойцами искал и исправлял повреждения. Ему везло все лето.
Был он откуда-то с Волги, любил рассказывать о своей семье, писем получал больше всех. Когда в октябре нас первый раз отвели с болота Сучан на отдых, все считали, что дивизия туда уже больше не вернется. Один Трегубов неожиданно обронил:
- А мне почему-то кажется, что я так и останусь на Сучане.
Пророчество его сбылось... Через неделю или полторы нас снова вернули на старые места. Трегубов, получив задание, как всегда, пошел впереди связистов. Обратно в штаб дивизиона его принесли мертвым.
Таня Волкова
...Поздней осенью сорок второго, когда первые морозы сковали землю и снег припорошил сучанское болото, в наш блиндаж-землянку штаба дивизиона, расположившуюся в районе огневых позиций, вошла девушка в шинели, с медицинской сумкой на боку.
Девушка возвращалась с НП нашей батареи, где делала перевязку раненому три дня назад разведчику, который не захотел идти в санбат. Держалась просто, непринужденно. Мерцающий свет коптилки не дал мне возможности сразу рассмотреть черты ее лица. Пока согревалась вода в котелке, кто-то попросил Таню спеть. Она сразу же согласилась. Откуда-то появилась и гитара. Тогда я впервые услышал бередящие душу слова:
Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза...
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза...
Голос у Тани был негромкий, но очень чистый, нежный и проникновенный. Он унес мои мысли с заснеженного болота Сучан в необыкновенный мир той далекой любви, которую воспевала песня. И наша землянка, где в печурке тлел огонек, а кругом бушевала поднявшаяся к ночи метель, показалась мне не такой уж холодной и неуютной.
Позднее я поближе познакомился с ней. Это была красивая и отважная девушка. Ей не надо было говорить - иди перевяжи раненого. Она сама рвалась туда, где что-нибудь случалось. Казалось, что ни артиллерийский обстрел, ни свистящие пули ее не пугали.
В боях на болоте Сучан Таня Волкова познакомилась с политруком одной из батарей - молодым лейтенантом, которого все любили и уважали за мужество и внимание к солдатам. В январе 1943 года приказом по полку было объявлено, что они вступили в брак.
Большая любовь всегда возвышает. Мы слышали о Тане только хорошее и обрадовались за нее. Поэтому приказ был встречен всеми с одобрением. Значит, война - настоящей любви не помеха!
Когда в апреле 1943 года дивизию сняли с Северо-Западного фронта, в первый же день пришлось пройти километров тридцать. К концу дня все устали. Таня забралась на прицеп, где везли боеприпасы. Очевидно, один из снарядов был положен в прицеп по недосмотру уже подготовленным к стрельбе, со снятым колпачком. Возможно, на ухабе была задета боевая головка или снаряд стукнулся ею о стенку ящика... Внезапно взрывы потрясли воздух. Прицеп вместе с Таней оторвало от автомашины и отбросило в сторону. У политрука отобрали пистолет: все произошло на его глазах, и он хотел только одного - застрелиться. Могилу Тане копать не пришлось. От нее после взрыва ничего не осталось. Только песни. Одна из них, услышанная на Сучане, и сейчас вызывает щемящее чувство в моей душе...
Сержант Заяц
Шальная пуля тоже может убить. Как-то в один из погожих дней, которые были редко на Сучане, мы - три сержанта вышли из блиндажа и остановились, что-то обсуждая. Вдруг стоявший среди нас сержант Заяц безмолвно упал на землю: откуда-то прилетевшая шальная пуля пробила ему голову:
"Ни шагу назад без приказа!". Касым (Константин) Абайханов
В конце июля, когда немцы устремились к Сталинграду, к нам в штабной блиндаж пришел парторг полка Константин Абайханов и зачитал навсегда оставшийся в памяти фронтовиков приказ Верховного Главнокомандующего номер 227. И сразу трудности нашей "сучанской" жизни, мои заботы о родных - все отошло назад перед этими откровенными, тревожными и жестокими словами сталинского приказа: "...Пора кончать отступление... Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности... Отступать дальше - значит загубить себя и вместе с тем нашу Родину... Ни шагу назад без приказа высшего командования!
...Каждый командир, красноармеец и политработник должны понять, что наши средства не безграничны. Территория Советского государства - это не пустыня, а люди - рабочие, крестьяне, интеллигенция, наши отцы, матери, жены, братья, дети... После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало намного меньше территории, стало быть, стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 70 миллионов населения, более 800 миллионов пудов хлеба в год и более 10 миллионов тонн металла в год.
У нас нет уже теперь преобладания ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше - значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину..."4.
Приказ этот запомнился мне как поворотный пункт в войне: наступление немцев под Сталинградом было остановлено! День за днем мы продолжали напряженно следить за сводками. Сталинград не сдавался! Накал боев стал предельным, мужество защитников города - небывалым. Это был героический пример выполнения необычного приказа, и он сыграл великую роль!
Вместе с дивизией Абайханов прошел все, оставшиеся на ее пути сражения и уцелел. Тогда ему было 25 лет. Его любили солдаты и офицеры полка. Он был всегда там, где было трудно. После войны вернулся в родной Ташкент. Я был у него дома, он приезжал ко мне в Киев. Тридцать лет промчались незаметно. Регулярно переписывались. И вдруг письмо от жены - скоропостижно скончался муж:
Александр Ипполитов
Говорят, что случай маловероятен, но щедр. На войне, немногим, он дарил жизнь, в то время как кругом калечило и убивало. Для других же не скупился на ранения и смерти там, где не было большой опасности. Третьих, пропустив через все круги фронтового ада, лишал жизни, когда, казалось, все уже было позади.

...Много раз мог погибнуть на Сучане, но не был даже ранен мой друг, сержант-радист Саша Ипполитов. Летом он неоднократно сопровождал Филиппова, когда тот делал вылазки для пристрелки. Накануне боя, в котором погиб Филиппов, Ипполитов находился на наблюдательном пункте дивизиона. Вечером в блиндаж к Ипполитову пришел Филиппов. Два связиста поочередно дежурили у телефонного аппарата. Ипполитов, как обычно, проверил на ночь радиосвязь. Рация работала отлично. На передовой стояла мертвая тишина. Незаметно тема разговора переменилась. Вместо обсуждения событий на передовой начались рассказы о довоенной жизни, о личном. Саша с удивлением узнал, что Филиппов - его ровесник, они оба окончили перед войной среднюю школу. Беседовали всю ночь. Когда перед рассветом Филиппов пошел на свой наблюдательный пункт, Ипполитов проводил его и снова вернулся в блиндаж. Уже засыпая, он подумал, что на передовой непривычно тихо.
В этот момент совсем рядом с блиндажом разорвался тяжелый снаряд, вслед за этим послышался нарастающий вой и грохот. Через какие-то мгновенья звуки слились в общий гул, который не давал возможности слышать друг друга и разговаривать по телефону. Из щелей в накате заструился песок; от сотрясений воздуха погасло пламя коптилки. Не дожидаясь команды, Ипполитов включил рацию и услышал в наушниках чей-то голос - штаб дивизиона требовал доложить обстановку.
Он пытался связаться по телефону с Филипповым, чтобы узнать, что происходит на левом фланге. Но безуспешно. Тогда Ипполитов выскочил из блиндажа, надеясь увидеть кого-то из стрелков. В нескольких шагах от себя он заметил вражеского автоматчика. Между деревьями мелькнуло еще несколько зеленовато-серых фигур. Ипполитов выстрелил из карабина в автоматчика, который сразу упал. Тогда Ипполитов решил ползти по узкой, неглубокой траншее, которая вела на правый фланг. Через несколько десятков метров закрепленная на спине рация зацепилась за ствол сбитой снарядом тонкой березы. Стараясь освободиться, Ипполитов привстал на колени. Близкий разрыв немецкой ручной гранаты уложил его на дно траншеи. Осколки посекли ветви и ствол березы, и рация освободилась. Чтобы посмотреть, не повреждена ли рация, сержант попытался сесть. Но как только высунул голову над бруствером, в ту же секунду его оглушила автоматная очередь, глаза засыпало песком. Напрягая все силы, он быстро-быстро пополз по траншее, потом неестественно большим прыжком выскочил из укрытия и бросился к запасной траншее.
Ипполитов не запомнил, сколько раз падал на землю, сколько раз по нему стреляли. Добежать до своих - это было главным! Наконец, когда силы были на исходе, он увидел траншею и свалился в нее...
Там находились артиллеристы и пехотинцы. Один из них, усатый, коренастый, с орденом Красного Знамени на груди, выделялся спокойствием и распорядительностью. Потом Саша узнал, что это был капитан Виталий Михайлович Сарычев, командир полковой батареи. Как только Ипполитов восстановил радиосвязь, Сарычев немедленно дал команду открыть артиллерийский огонь. Вражеская пехота была прижата к земле - ее продвижение прекратилось.
Вечером Саше приказали явиться в штаб дивизиона. Не прошел он и ста метров, как вдруг автоматная очередь прострочила кочковатую поверхность болота. Рядом с его ногами вражеские пули вздыбили фонтанчики воды. Пришлось передвигаться ползком. Пропитанная водой и грязью шинель стала непривычно тяжелой. Рация, карабин и вещмешок мешали движению. Сентябрьская болотная вода была ледяной, но с него лил горячий пот. Немецкая "кукушка" долго не хотела упустить появившуюся добычу. Только через три часа, уже перед самым закатом, добрался Саша Ипполитов до штаба дивизиона. Этот день с его многочисленными опасностями, тревогами и неимоверным напряжением запомнился девятнадцатилетнему сержанту на всю жизнь.
Но это лишь один из случаев, когда жизнь у Саши весела на волоске. И все-таки ему везло. В Белоруссии, где немецкие саперы при отступлении заминировали где только могли оставляемую территорию, в том числе мосты и дороги, Саша с рацией ехал на машине вместе с группой солдат. Кстати, впереди, на ближайшей машине находился я. Колонна машин, включая мою, двигалась благополучно, когда вдруг, под машиной, на которой был Ипполитов, взорвалась противотанковая мина. Когда я подбежал к подорвавшейся машине, Сашу, контуженного взрывом, выносили из кузова машины. Из его, изорванных осколками сапог, текла кровь. Потом недели две спустя меня тоже ранило, и мы оба оказались в госпитале в Мозыре. Саша поправился, но оставил госпиталь позднее, чем я. Я нашел его много лет спустя после войны. Он был первым однополчанином с которым я встретился после войны. Наша радость была безмерна. Он продолжал служить в армии. Лет десять назад тяжело заболел, но сумел справиться с болезнью. Не надолго:
Николай Мартынов
...Начальником разведки нашего 1-го дивизиона был лейтенант Николай Тимофеевич Мартынов. Николай был самым старшим среди нас. До войны он работал ткацким мастером, имел семиклассное образование. Человек исключительной храбрости, выдержки и железного здоровья, Мартынов словно родился для должности начальника разведки. Бывая в самых опасных местах сучанского болота, он каждый день многократно рисковал жизнью и тем не менее ни разу не был ранен. Выручали хладнокровие, природная сметка, наблюдательность, быстрая реакция на изменения в обстановке и... солдатское счастье. С легкими ранениями Мартынов вообще не считал нужным обращаться в санбат и оставался на передовой. Помню, что уже позднее, в Белоруссии, у Николая осколком срезало кожу на животе, была задета и мускульная ткань. Только через несколько дней командир дивизиона сумел заставить его пойти в санбат, где сделали хорошую перевязку и подлечили загноившуюся рану.

Там же, в Белоруссии, когда мы были на отдыхе, один из солдат во время обучения бросанию гранаты случайно выдернул кольцо у гранаты-"лимонки" и, испугавшись, отбросил ее почти под ноги Мартынову. Николай тогда чудом уцелел, пах и низ живота усеяло мелкими осколками. В медсанбате сказал, чтобы осколки извлекали без наркоза.
- Буду смотреть, чтобы беды не натворили, - пошутил.
И стерпел, не проронил ни звука, удивив всех огромной выдержкой. Кстати сказать, внешне Николай Тимофеевич не выделялся чем-то особенным - невысокий, сухощавый, с открытым взглядом серых глаз под белесыми бровями и чубом светлых волос на голове. Разве что выглядел удивительно молодо - никто не верил, что ему двадцать восемь лет.
Замечательным качеством Николая была душевная доброта. Он всегда стремился помочь более слабому, причем безвозмездно, от душевной щедрости. Не один раз с риском для жизни помогал и мне, делая вид, что это ему ничего не стоит, просто все так и должно быть.
Командир дивизиона капитан Александр Данилович Новиков в Мартынове души не чаял. Мне же Николай Мартынов казался вообще непостижимым человеком, и я, быстро сдружившись с ним, пытался брать с него пример.
Но Николай не был безрассудно храбрым. ...Как-то, во время боев на Курской дуге, когда наша дивизия преследовала противника уже далеко за Понырями, я пришел на НП дивизиона. Стоял жаркий летний день. На передовой было временное затишье. Пользуясь этим, разведчики лежали в нескольких метрах от блиндажа, подставив носы под лучи солнца. У входа сидел связист. Мартынов лежал в стороне от всех, метрах в пятнадцати. Вдруг на склоне высотки разорвалась мина. Все бросились в блиндаж. Подбегая к укрытию, я взглянул на Мартынова. Он не шевелился. "Спит, - подумалось мне. - Надо разбудить". Бросился к нему с криком:
- Николай! Обстреливают! Бежим в блиндаж!
Мартынов повернулся с боку на бок, зевнул и громко, чтобы слышали разведчики в блиндаже, сказал:
- Меня не убьет!
И сейчас, когда пишу эти слова, слышу его спокойный, с небольшой хрипотцой голос. Разорвавшаяся сзади нас мина засыпала кусты осколками. Я не стал рисковать и спрятался в блиндаж. Обстрел продолжался. Мины то и дело рвались на высотке - слева, справа, впереди и сзади нашего укрытия. Мартынов "выдерживал характер". Минут десять-пятнадцать пролежал он под секущими кусты осколками, пока не кончился обстрел.
Те, кто был на фронте, могут представить, как такое поведение действовало на людей. Не зря любили разведчики Николая Тимофеевича! Много такое бесстрашие значило на войне, где человек становился комком обнаженных нервов! Но, если говорить о характере Мартынова, то это, пожалуй, не все.
Много позднее, уже в Белоруссии, я оказался случайным свидетелем другой картины. Как-то пришлось мне идти по плохо замерзшему, запорошенному снегом, с редкими кустами болоту. Впереди себя увидел быстро идущего человека. Внимательно приглядевшись, узнал Мартынова. В этот момент с вражеской стороны прозвучали орудийные выстрелы, и сзади нас шлепнулись в болото и глухо разорвались два снаряда. Падая на землю, я увидел, как одновременно со мной упал и Мартынов. Потом мы так же одновременно вскочили и побежали вперед и снова упали на сырую кочковатую землю болота при следующем снаряде. Мартынов был немного дальше меня от разрывов, но вел себя так же, как и я. На этот раз он был один и, зная об этом, не хотел рисковать своей жизнью.
После войны Николай продолжал работать в своем Ликино Дулево под Москвой. Я нашел его через 17 лет. Он стал участвовать в наших встречах в Мозыре, Москве, Курске. К великому сожалению его железное здоровье, подорванное войной, все-таки стало сдавать. Помню, по просьбе его дочери я посылал ему очень нужные для лечения лекарства. Не помогло:
Александр Алалыкин
Под стать Николаю были его разведчики. Мне запомнился татарин Александр Алалыкин. Все лето он просидел на наблюдательных пунктах вместе с Мартыновым в каких-нибудь сотнях метров от немецкого переднего края. Рядом с ними убивало и ранило людей - разведчики выходили из строя один за другим, а Александр отделывался лишь дырками в шинели, сапогах да в пилотке. И теперь он вспоминается мне: невысокого роста, широкоплечий, со скуластым открытым лицом и добрым взглядом черных глаз, скромен и молчалив до предела. Как-то по дороге с НП на огневые позиции он наткнулся на отставшего от группы разведчиков гитлеровца и "привел" его в штаб полка. В дивизионе узнали об этом лишь случайно.
Надо сказать, что разведчики редко дождались своих наград. Чаще награды находили их в госпитале, либо о них говорилось в "похоронке". К концу боев на Северо-Западном фронте медаль "За отвагу" по праву украсила грудь Александра Алалыкина, оставшегося живым и невредимым. Послевоенная его судьба мне, к сожалению, не известна.
"Совсем как под Горбами".
Александр Новиков, Николай Мартынов и я
Позднее, где бы дивизия не воевала, если надо было подчеркнуть убийственную тяжесть артиллерийского обстрела или особую жестокость боя, мы обычно говорили: "Совсем как под Горбами". Так называлась деревня в конце "Рамушевского коридора". Она была показана на карте, но ее не существовало: вражеская артиллерия смела деревню Горбы с лица земли.
Это был тот период, когда советские войска, воодушевленные победой под Сталинградом, вели успешное наступление на многих участках фронта. Мы прибыли под Горбы в суровые январские морозы и были брошены в брешь, пробитую в немецкой обороне. Враг отчаянно сопротивлялся. Чтобы обескровить готовившиеся к наступлению советские войска, враги использовали свою многочисленную артиллерию, находившуюся в полукольце окружения. Ее налеты были массированными и точными: гитлеровцы организовали звукозасечку наших батарей, использовали для корректировки огня аэростаты. Стоило нашему орудию сделать три-четыре выстрела, как на наши огневые позиции тотчас обрушивался шквал артиллерийского огня нескольких вражеских батарей. Для людей, лошадей и пушек строились мощные укрытия из бревен и земли. Но все-таки почти каждый день мы теряли командиров батарей, связистов, разведчиков, вычислителей, огневиков5.
Проводная связь во время боев под Горбами почти не работала. После артиллерийских налетов оставались лишь отдельные куски провода, соединить которые было невозможно. Каждые сутки прокладывались новые линии, но и они работали всего по 10-15 минут: осколки мин и снарядов снова секли их на мелкие куски. Помню, в один из дней, когда шел тяжелый бой и надо было обеспечить связь во что бы то ни стало хотя бы на несколько часов, комиссар полка майор Анатолий Францевич Циш приказал всему политсоставу полка вместе со связистами выйти на линии связи и восстанавливать провод.
В донесении от 25 января 1943 года командующий артиллерией нашей 55-й СД полковник И.С.Зарецкий указывал: "Перед фронтом дивизии действовало до 20 немецких батарей калибром 75, 105, 155 и 210-мм. Кроме того, действовали минбатареи, количество которых не установлено."6
Во время боев я в большинстве случаев находился в штабе дивизиона, помогая начальнику штаба дивизиона капитану Турикову в обеспечении стрельбы батарей и подготовке боевых донесений.
В один из первых дней боев под Горбами капитан приказал мне пойти на НП дивизиона, связь с которым была потеряна, найти его и уточнить местоположение. До НП было километра 3-4. Пройдя километр, стал пересекать большое поле, где ночью немецкая артиллерия произвела огневой налет. Вражеские снаряды буквально перепахали его вдоль и поперек, кругом чернели глубокие воронки. Земля, копоть, снег, сбитые и посеченные мелкие деревья и ветки кустарника - все смешалось. В воздухе еще стоял запах пороха. Один из тяжелых снарядов попал прямо в то место, где вчера был наш штабной блиндаж. Взрывом разбросало бревна наката7 по сторонам, часть их валялась в образовавшейся воронке.
Поневоле съежившись, я быстро перебежал обстрелянный участок, затем перешел через замерзший ручей и стал подниматься по заросшему редкими кустами лугу. Там, где начинался лес, увидел блиндаж. Он оказался пустым. Посидев немного на его крыше, я определил по карте свое местонахождение и пошел дальше.
Сказывалась близость передовой. Впереди время от времени трещали автоматы - и наши, и немецкие. Но пули еще не долетали до меня. Поле пересекли глубокие колеи от танковых гусениц, и, посмотрев, куда они ведут, я заметил сбоку, в кустах, два Т-34. Почему-то перевел взгляд с танков на небо и вдруг ясно увидел две черные точки, летящие прямо на меня. Мгновенно шлепнулся в снег, и тотчас оглушили два близких разрыва. Ни раньше, ни позже мне не приходилось видеть, как летят мины. А сейчас, если бы я их не заметил, то, наверное, не успел бы упасть в снег до их разрыва...
Полуоглушенный, я вскочил и бросился в лес. Снеговой покров между деревьями, посеревший от копоти и выброшенной взрывами земли, пестрел многочисленными воронками. Многие деревья были повреждены артиллерийским и минометным обстрелом. Я перебежками пробирался дальше, прячась за уцелевшими деревьями. Рядом то и дело громко щелкали разрывные пули немецких автоматов. При ранении такой пулей образуется рваная, трудно заживающая рана.
Сейчас стрельба шла в лесу, и при каждом, самом легком соприкосновении с веткой или стволом дерева, пули разрывались, издавая громкий, щелкающий звук.
Наконец малозаметная тропа, на которую я случайно наткнулся, привела меня к блиндажу. Спрыгнув в узкий проход, я нагнулся, чтобы побыстрее забраться в убежище. Но не тут-то было. В блиндаже люди буквально лежали друг на друге. Кое-как втиснувшись поверх всех, я пробрался к Мартынову. Дневной свет слабо проникал сюда. Лицо Мартынова казалось серым, выросшая за несколько дней щетина на щеках и подбородке изменила его черты.
- Зачем тебя сюда принесло? - спросил он.
Я протянул ему карту и попросил нарисовать передний край, спросил, где НП. Оказалось, что НП дивизиона и батарей находится метрах в 200-300 впереди, в воронке от тяжелого снаряда. Мартынов сидел в ней вместе с разведчиком Алалыкиным весь вчерашний день, порядком перемерз, но зато хорошо изучил передний край немцев. Идти сейчас на НП бессмысленно, убьют. Стрельбу комбаты ведут отсюда, ориентируясь по звукам разрывов.
Я отметил на карте примерное местонахождение НП и блиндажа, а Мартынов нанес на нее линию переднего края. Почувствовав, что тела подо мною начали шевелиться, сполз в проход. Надо было вылезать обратно.
- Подожди немного, - остановил меня Мартынов.
И почти сразу же после его слов многочисленные разрывы затрясли блиндаж. Обстрел кончился так же внезапно, как и начался.
- Теперь иди, - сказал Николай. - Они, гады фашистские, по расписанию сегодня работают!
Я попрощался, вылез из блиндажа и, подстегиваемый автоматными очередями, побежал обратно. От только что развороченной взрывами снарядов и мин земли пахло сгоревшим толом. Где-то справа ухали разрывы тяжелых снарядов. Сильно запыхавшись, перешел на быстрый шаг. Хотелось скорее выйти из опасного места. У блиндажа, где мне удалось передохнуть по пути на НП, увидел лежавшего навзничь мертвого красноармейца. Принес ли его кто сюда или тут его убило - понять было трудно.
Когда вернулся, в штабной землянке никого не было. В мое отсутствие одна из наших батарей, находившаяся почти рядом с нашей землянкой, открыла стрельбу. Гитлеровцы сразу же засекли ее: едва забрался в землянку, как кругом стали рваться снаряды. Было разбито орудие. Один из снарядов упал прямо у входа в землянку. К счастью, не разорвался...
Я понимал, что батарею нельзя оставлять на старом месте. Как только она снова откроет огонь, ее могут уничтожить. Не исключено, что налет повторится сегодняшней ночью: тогда на месте батареи останется месиво из земли и железа, и тогда никакие укрытия не спасут орудия. "Надо готовить запасную огневую позицию", - решил я и распорядился от имени начальника штаба. За ночь ОП была оборудована: сделаны укрытия для орудий и снарядов, блиндажи для орудийных расчетов. Я подготовил данные для стрельбы, выбрав целью вражескую передовую впереди НП, на котором только что побывал и в правильности координат которого не сомневался.

Утром в наш штабной блиндаж вошли командир дивизиона Новиков и вернувшийся с НП начальник разведки Мартынов. Новиков стал расспрашивать о чем-то Мартынова. Я молчал. Вчера мы потеряли одного из командиров батарей. Нового офицера еще не прислали. "Может быть Новиков назначит меня командиром батареи? - подумал я. - Ведь справился бы, а значит, смог бы делать больше, чем делаю. И так было бы честнее перед самим собой! Или, Новиков считает, что я не настоящий офицер, раз получил звание на фронте без военной школы, да еще всего четыре месяца назад?
Командир дивизиона, словно разгадав мои мысли, стал внезапно серьезным:
- Слушай, Малиновский! Я ведь понимаю, о чем ты думаешь. Хочешь, чтобы я тебя назначил командиром батареи? Знаю, ты с этим справишься. Ну и что? Завтра же принесут тебя сюда убитого или еще через день притащат собачьей волокушей умирающего в медсанбат. А скажи, что ты видел в жизни? Ты ведь и девушку ни разу не поцеловал!
Мартынов поддержал его. Лишь через год, уже на другом фронте, когда у нас выбыл один из комбатов, Новиков назначил меня на его место, да и то временно.
Почему он так поступил? - задаю я себе вопрос. Старший по возрасту и лучше познавший цену жизни, видевший в эти дни не одну безвременную смерть, он, думаю, искренне хотел, насколько было в его силах, помочь молодому, только начинающему жить человеку дожить до обычного человеческого счастья, казавшегося таким несбыточным и прекрасным в те суровые и страшные дни.
Трудно предугадать повороты судьбы! И все-таки считаю: если бы не командир дивизиона Александр Данилович Новиков, - не уцелеть бы мне в те убийственные дни жестоких обстрелов и лютых морозов...
После войны он жил в Минске. Был на ветеранских встречах. Никогда не говорил, что по отечески пожалел меня, одного из тех двадцатилетних, из которых мало кто вернулся: Когда слышу, что командиры не берегли своих подчиненных, я вспоминаю моего командира дивизиона. Но, видно, не все были такими: К великому сожалению его уже нет. Память о нем будут хранить мои книги о войне.
Женя Комаров
Ненависть к противнику теперь постоянно прорывалась в наших разговорах. "Вот придем в Германию, я там никого не пожалею, ни старуху, ни ребенка!",- горячился девятнадцатилетний сержант Евгений Комаров, командир отделения разведки нашего дивизиона, сменивший погибшего сержанта Зайца. В 1941 году у него погибла вся семья: отец и старший брат - на фронте, а мать - в тылу под фашистскими бомбами. Женя воевал смело и отважно. Немецкий снаряд, разорвавшись рядом с наблюдательным пунктом, искромсал его тело до неузнаваемости. Не стало еще одного моего товарища. И похоронку послать некому...
Большинство знакомых мне солдат и офицеров были настроены по отношению к немцам примерно так же, как сержант Комаров. Да и в тылу, узнавая о зверствах оккупантов, люди не могли простить этого врагу. Отец писал мне в те дни: "Танюшка спрашивает, сколько ты убил фрицев?" Моей любопытной племяннице шел... шестой год!
Тогда слова "немцы, фрицы, фашисты" одинаково обозначали ненавистных нам оккупантов.
Это было до появления известной редакционной статьи в газете "Правда", разъяснившей разницу между фашистами и немецким народом. В статье говорилось, что гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается и не может стать объектом мести. Наш ум понимал эти истины, но сердце болело по погибшим и не сразу подчинялось разуму.
Иван Иохим
Инструктор политотдела дивизии Иван Александрович Иохим, выходец из немцев Поволжья, после боев под Горбами наступлении на деревню Левошкино, оказался в окружении8. Вот его бесхитростный рассказ:
"11 января сформированная командиром дивизии группа прорыва, в которую входил и я, при поддержке нескольких танков пыталась прорваться к окруженному 107-му СП. Танк, за которым бежали я и еще несколько человек, был подожжен. От него повалил густой дым. Пользуясь возникшей дымовой завесой, наша группа пробилась через немецкий передний край и соединилась с окруженными. Остальные танки были подбиты, прорыва не получилось.
Через несколько дней во время одного из обстрелов меня ранило осколком в грудь. Я потерял много крови (перевязку некому, да и нечем было сделать), и меня затащили в одну из трех землянок, где находились раненые. К 22-23 января обстановка стала критической. Все попытки высвободить нас не увенчались успехом. Продовольствия не было ни грамма. Патроны заканчивались. Из двух раций собрали питание для одной, но и она дышала на ладан. За два дня до этого произошло событие, которое ускорило решение командования о нашем самостоятельном прорыве. Ночью к нам в плен попал заблудившийся немецкий фельдфебель, который наткнулся на наше боевое охранение. Поскольку я был единственным человеком, владевшим немецким языком, мне пришлось вести допрос. Выяснилось, что пленный в составе бригады горных егерей (номер уже не помню) был переброшен сюда из Скандинавии. Ночью их бригада сменила находившуюся на нашем участке потрепанную немецкую часть и получила задачу уничтожить окруженную в лесу русскую группировку. Эти данные мы сообщили командованию, и в ночь на 23 января получили приказ прорываться к своим.
Днем мне принесли щепотку сухарных крошек. Это была вся моя пища за 10-11 дней. Сообщили, что ночью прорываемся. Состояние у меня было тяжелое, голода я уже не чувствовал, сил передвигаться не было. Досаждало несметное количество вшей, переползавших на меня с трупов, которых в землянке было уже больше десятка. Я попросил вытащить меня, когда начнется отход, или, в крайнем случае, пристрелить, но не оставлять живым...
Но случилось так, что обо мне забыли, а может, просто совесть не позволила пристрелить. Сообщил мне об отходе наших пленный немец, который находился в блиндаже со связанными телефонным проводом руками. Что заставило его это сделать - трудно понять. Возможно, он считал, что его перед уходом пристрелят, а может, подействовало гуманное с ним обращение наших бойцов... Как бы там ни было, я, уцепившись за него, выбрался из нашего склепа. Была глубокая ночь. Снег - выше колен. Мороз - 20°С. Все уже ушли далеко вперед. Мимо пробирались шедшие сзади раненые - кто с палкой, а кого тащили на палатке.
Вдруг в лесу раздалось громовое "Ура-а-а!", и началась стрельба. Не знаю, откуда у меня вдруг появилась такая прыть, но я ринулся вперед за всеми. Немцы были буквально ошеломлены нашим "Ура!", тем более ночью, в лесу, видно, они этого не ожидали. В какой-то момент я вскочил в воронку от бомбы, где стояли три фрица с поднятыми руками у станкового пулемета, но на них никто не обращал внимания. Пробежав еще и окончательно выбившись из сил, я упал в снег. Кругом наступило затишье. Холода я не чувствовал и уже смирился с тем, что мне больше не подняться. И вдруг кто-то рядом мощно закричал:
- Товарищи, вперед! Осталось сто метров! Здесь - смерть, там - жизнь! - это был голос командира полка Вербина. Не в состоянии подняться, я пополз и вскоре увидел пушку, выкрашенную в белый цвет, и услышал русскую речь. Это все, что осталось у меня в памяти.
Очнулся в блиндаже командира дивизии Заиюльева. Его первый вопрос был: "Где Вербин?" Что на это я мог ответить...9 Затем - медсанбат, лечение от истощения, а потом - фронтовой госпиталь, где был извлечен из грудной клетки злосчастный осколок.
Особо следует сказать о массовом героизме наших воинов. У бойцов не было возможности укрыться от непрерывного обстрела - на всех было три землянки, да и те были заполнены ранеными. Сильные морозы, отсутствие пищи и медицинской помощи, нехватка боеприпасов до предела усложнили обстановку. Но не было случаев, чтобы кто-то смалодушничал. Все коммунисты и комсомольцы, вышедшие из окружения, сохранили свои партийные и комсомольские билеты, награды и знаки различия. В моей планшетке вместе с другими документами были листовки на немецком языке, разоблачавшие преступную клику Гитлера и обращения к немецким солдатам с призывом сдаваться в плен10. Нетрудно догадаться, что меня ожидало, попадись я им живым в руки. Вот, пожалуй, и все из этой эпопеи".
Остается добавить, что Ивану Александровичу в те дни шел двадцать второй год.
На последних встречах ветеранов его не было...
Константин Лосев.
Последние бои на Северо-Западном фронте
Наступление под Старой Руссой началось утром 23 февраля 1943 года. Заурчали "катюши" - они всегда первыми открывали артподготовку. К ним присоединились орудия нашего полка и поддерживающая дивизию тяжелая артиллерия Резерва Главного Командования. От мощного артиллерийского огня задрожала земля. Выстрелы орудий, сливаясь с разрывами снарядов на вражеской передовой, заглушали все остальные звуки и сотрясали воздух сплошным мощным гулом.
Время от времени прорывались хорошо знакомые нам раскатистые и рыкающие звуки мощных ракетных снарядов, выпускаемых поодиночке специальными установками; воронки от них были похожи на воронки авиационных бомб. Началось последнее сражение на Северо-Западном фронте.

Наиболее тяжелый бой развернулся в районе станции Марфино, что неподалеку от Старой Руссы. Лейтенант Константин Михайлович Лосев, тогда просто Костя появился у нас в полку в августе, во время боев на болоте Сучан. Теперь командир дивизиона поручил ему поддержать бой одного из передовых стрелковых батальонов. Для двадцатилетнего комсомольца, всего полгода назад окончившего артиллерийское училище, это было первое серьезное задание, чуть не стоившее ему жизни и потому запомнившееся. Вместе с ним были разведчик и телефонист. Впереди, в полукилометре, - вражеский передний край. Справа вдалеке смутно вырисовывалась окраина Старой Руссы. Вокруг - небольшой кустарник и мелколесье. Сзади, почти рядом, стояла хорошо замаскированная полковая пушка, подготовленная для стрельбы прямой наводкой.
После небольшого затишья немцы, перегруппировавшись, перешли в контратаку. Большой отряд автоматчиков и два самоходных орудия противника пересекли шоссе и двинулись на роты батальона, которые залегли. Одновременно усилился вражеский артиллерийский и минометный обстрел. Доложив по телефону командиру дивизиона о сложившейся обстановке, Лосев получил приказ открыть заградительный огонь, но внезапно связь оборвалась. Связист побежал искать повреждение. А тем временем контратакующие приближались к нашим позициям, ведя сильную стрельбу из автоматов.
Рядом ухнул выстрел. Это полевое орудие открыло огонь по наступающему противнику, но после двух выстрелов замолчало. Лосев подбежал к орудию и увидел, что командир его убит, а расчет в замешательстве. Не задумываясь, старший лейтенант крикнул:
- Слушай мою команду!
Бойцы словно ожидали этих слов. Они бросились к пушке и точно выполнили команды новоявленного командира. Третьим снарядом самоходное орудие было подбито.
- По второй самоходке... - снова скомандовал Лосев, и вдруг у него в голове возник какой-то сплошной звон, вытеснивший трескотню автоматов, а слева горячо пахнуло пороховой копотью и гарью. Повернув голову туда, он увидел в нескольких шагах от себя еще дымящуюся воронку от взрыва снаряда или мины. К нему подбежал разведчик и стал что-то беззвучно кричать. Орудие продолжало стрелять, но звуки его выстрелов теперь воспринимались, как едва слышные хлопки...
Вскоре атака была отбита. Враги понесли большие потери и были отброшены назад, за шоссе.
Через день слух у Кости восстановился. В боях под Старой Руссой ему повезло дважды. Несколькими днями позже, когда гитлеровцы были уже выбиты с занимаемых позиций, Лосев вместе с разведчиками проходил мимо построенного немцами блиндажа. Его двойные стенки, между которыми была засыпана земля, служили бы хорошей защитой, если бы не открытый вход в блиндаж, обращенный к противнику. Начался артиллерийский обстрел. Лосев с разведчиком бросились в блиндаж, где уже находилось несколько человек из стрелковых подразделений. Через открытый вход были видны блестки огня, вылетавшие из ствола вражеского орудия, которое било прямой наводкой. Внезапно какое-то предчувствие заставило Лосева выскочить из блиндажа и спрятаться за его заднюю стенку. Следом за ним сюда прибежал разведчик. Только они присели, как раздался сильный приглушенный взрыв, затем треск, крики и стоны. Стенка блиндажа пошатнулась, но осталась целой. От снаряда, разорвавшегося внутри, погибли все, оставшиеся в блиндаже... Ему везло, как никому. Вместе с дивизией участвовал в боях на Курской дуге, в Белоруссии, в Прибалтике. После войны Константин Михайлович работал в Ленинградской Авиационной военной академии имени Можайского. Ничто не предвещало беды: Но она пришла. Его супруга год назад сообщила, что его не стало:
* * *
За осень и зиму 1942-1943 годов Северо-Западный фронт упоминался в сообщениях Совинформбюро лишь два или три раза стандартными фразами: "На Северо-Западном фронте шли бои местного значения. Лишь 1 марта 1943 г. Совинформбюро сообщило:
В последний час
ликвидация укрепленного плацдарма противника в районе Демянска
"В сентябре 1941 года немецко-фашистским войскам удалось прорваться юго-восточнее озера Ильмень и занять силами 16-й немецкой армии район Залучье - Лычково - Демянск и далее на восток до берегов озер Велье и Селигер. В течение последующих 17 месяцев противник упорно и настойчиво стремился удержать за собой захваченный плацдарм и превратил его в мощный укрепленный район, назвав его "Демянской крепостью". Немцы рассчитывали использовать этот укрепленный район для развертывания удара на важнейшие коммуникации Северной группы наших войск. За это же время указанный район неоднократно был ареной ожесточенных боев, в которых перемалывались немецкие дивизии.
На днях войска Северо-Западного фронта под командованием маршала Тимошенко перешли в наступление против 16-й немецкой армии. В ходе боев наши войска, прорвав на ряде участков сильно укрепленную полосу противника, создали реальную угрозу двойного окружения немецко-фашистских войск. Противник, почувствовав опасность окружения, начал под ударами наших войск поспешное отступление на запад.
За 8 дней боев наши войска, неотступно преследуя противника, освободили 302 населенных пункта, в том числе город Демянск и районные центры Лычково, Залучье. Очищена от противника территория площадью в 2350 квадратных километров.
За восемь дней боев наши войска захватили в плен 3000 немецких солдат и офицеров.
За это же время взяты следующие трофеи: самолетов - 78, танков - 97, орудий разного калибра - 289, пулеметов - 711, а также большое количество боеприпасов и много другого военного имущества.
Противник оставил на поле боя более 8000 трупов".
|
Позднее военные историки напишут: "Операции советских войск на западном и северо-западном направлениях, проведенные в начале 1943 года, тесно связаны со стратегическим наступлением на юге. Хотя они и не достигли поставленных целей, враг был лишен возможности усиливать свои группировки на южном крыле советско-германского фронта за счет групп армий "Центр" и "Север". Это значительно облегчило Советской Армии не только успешно осуществить операции под Сталинградом, на Верхнем Дону, харьковском и донбасском направлениях, но и отразить попытку контрнаступления врага. Ликвидация плацдармов в районе Ржева и Демянска практически сняла угрозу наступления противника на московском направления."11
Бои за Демянский плацдарм бывший начальник штаба 16-й немецкой армии генерал-лейтенант Бек-Баренц назвал "мельницей" - уменьшенным "Верденом первой мировой войны"12.
Только убитыми 16-я немецкая армия потеряла здесь до 90 тысяч человек13. Добрая половина этой цифры приходится на потери от артиллерийского огня. Северо-Запад был единственным участком вражеского фронта, за пребывание на котором каждый фашистский солдат получал памятную медаль.
* * *
После войны участник боев - поэт Михаил Матусовский в поэме "На Северо-Западном фронте" скажет:
"Ни вешки какой, ни столба со звездой
Нельзя водрузить на могиле.
В траншеях, заполненных ржавой водой,
Мы мертвых своих хоронили.
Мы встав здесь однажды, не двигались вспять,
Решив не сдаваться на милость.
Наверно, поэтому нас убивать
По нескольку раз приходилось.
Окопы уходят в траву без следа,
До дна высыхают болотца,
Быстрей, чем мгновенья, мелькают года,
Но ЭТО со мной остается."
Отличившиеся в боях на Северо-Западном фронте бойцы и командиры за мужество и отвагу получили ордена и медали. Наград было не так уж много, и они не были щедрыми. Из близких мне товарищей были награждены: Беляев и Лосев орденом Красной Звезды, Мартынов - медалью "За отвагу". Меня наградили медалью "За боевые заслуги". Эта первая в моей жизни медаль и знак ветерана Северо-Западного фронта, полученный много лет спустя, - память о тяжелых боях, о тех, кто навсегда остался на Сучане, под Горбами, в безымянных болотах Северо-Запада...
И вот Северо-Западный фронт позади. Эшелон за эшелоном покидали станцию.
Под мерный стук колес теплушки написал домой письмо.
"...Я не знаю, что будет впереди, но сейчас мы двигаемся все дальше и дальше в тыл. Почти год простояли в обороне. Привыкли жить в блиндажах и землянках, в лесу и в поле. За эту зиму я практически не снимал шинели и шапки, они как бы стали частью моего тела, особенно шапка. Без нее мне сразу как-то не по себе. Но все это пустяки! Главное, видите: я жив и здоров, и мы научились воевать!"
Передний край стал нашей школой. Здесь мы учились быть настоящими солдатами, становились боевыми командирами. Нашими учителями были собственная совесть, пример товарищей и... ненавистные нам враги.
На переднем крае бывало по-разному. Одно дело, когда враг тебя не видит. Другое - когда ты в поле зрения и действия противника и тебя в любой момент может убить или ранить, но где нужно быть, несмотря на угрозу смерти, мороз, жару и голод... Когда знаешь, что противник обнаружил тебя, стараешься сделать все, чтобы избежать опасности. Но часто это невозможно: по условиям боевой обстановки необходимо быть именно здесь. Жестокое испытание, которому подвергаются люди в таких условиях, способствует укреплению в них высокого гражданского долга и взаимовыручки либо порождает трусов и предателей. На глазах друг у друга, день за днем, проходили мы суровую проверку, деля опасности пополам.
Позади остались болото Сучан, деревня Горбы и Старая Русса! Прощайте дорогие фронтовые товарищи, навеки оставшиеся на древней новгородской земле!
1Сорокакилометровый коридор, шириной 10 км, позволявший немецким войскам поддерживать полуокруженную 16-ю немецкую армию в районе г.Демянск.
2См. Б.Н.Малиновский, Участь свою не выбирали. К. Изд-во "Україна", 1991, с.119.
3Условные названия некоторых частей болота Сучан.
4Воен.-ист. журн. 1988. №8. С. 73-75.
5Бойцы, обслуживающие орудия.
6ЦAMO СССР. Ф. 55 СД. Оп. 1. Д. 53. Л. 50.
7Бревна, положенные сверху блиндажа.
8Два стрелковых полка нашей дивизии зимой 1943 года попали в окружение, в итоге потеряли более половины своего состава.
9Судьба Вербина неизвестна. Вероятнее всего, этот человек, спасший многих людей, сам погиб в последние минуты выхода из окружения, что подтверждается и рассказом Н.С.Локтионова. - Авт.
10И.А.Иохим отвечал в политотделе за антифашистскую пропаганду.
11История второй мировой войны, 1939-1945. М., 1976. Т. 6. С. 146.
12История Великой Отечественной войны Советского Союза, 1941-1945. М., 1961. Т. 11. С. 474.
13История Великой Отечественной войны Советского Союза, 1941-1945. М., 1961. Т. 11. С. 474.

Борис Малиновский "Документальная трилогия"
ТОВ "Видавництво "Горобець", 2011. -336с: 90 ил. ISBN 978-966-2377-19-4
© Б.Н.Малиновский, 2011