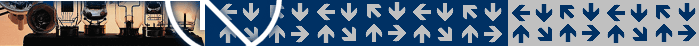Краткая биография Бориса Малиновского |
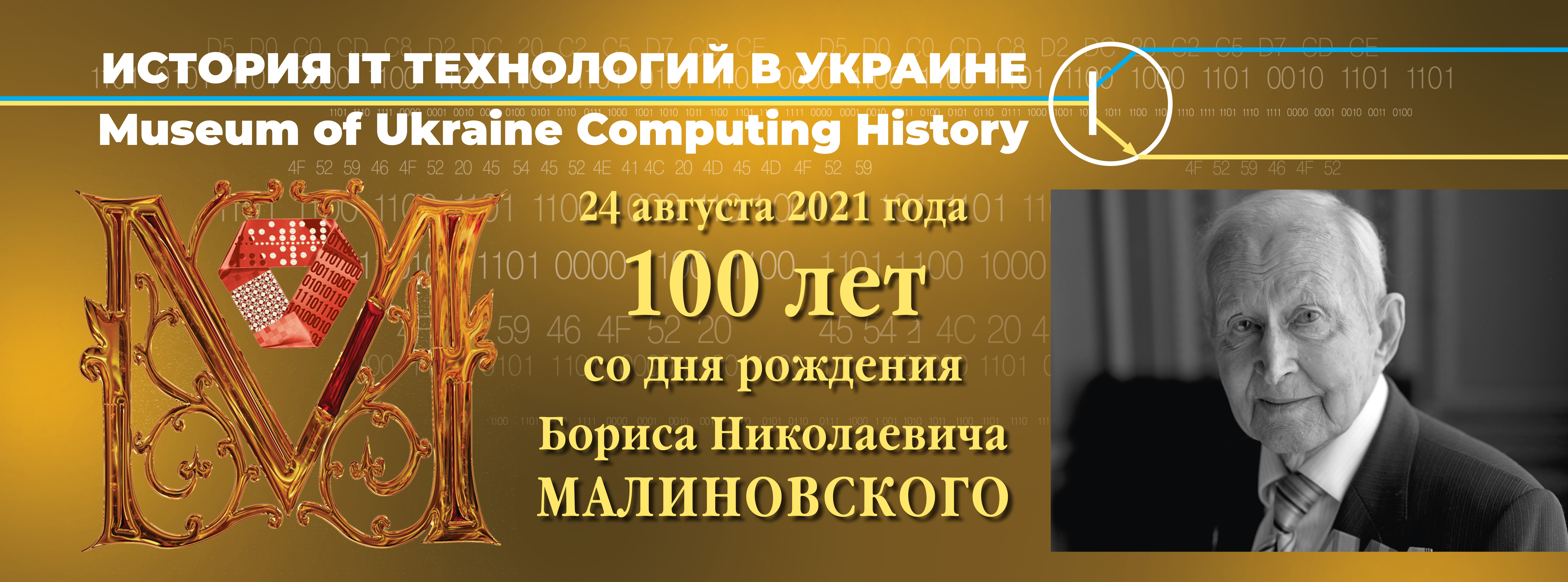 |
Сага о МалиновскихИз книги Александра Головцова "PRIMUS INTER PARES", 2018 год. |

Писательству, коему на склоне лет своих предаюсь с упоением, до самозабвения доходящим, вводящим меня в "удивительное состояние, когда время свивается и сгорает, когда дивное вдохновение награждает избранника светлым восторгом за все тяготы, за всю смуту жизни", некогда предшествовали долгие, на профессиональном уровне выстроенные, занятия научно-технические — в сфере разработки математических методов, программного обеспечения, электронных узлов средств вычислительной техники, ныне компьютерами именуемыми.

От прошлых высокоумных штудий, закончившихся с искусственным сломом их обеспечивавших государства, остались только философическая "грусть-тоска зелёная" да способность к системному мышлению, выработавшаяся во мне приёмами предмета алгебры логики. Сия научная дисциплина, прежде использовавшаяся мною в конструкторских разработках, ныне позволяет мне конструировать, без сторонней подсказки, собственные умозаключения о творящихся в окружающем мире событиях, увы, преимущественно негативных. (Ибо, следуя мнению мудрых, во-первых, "логика — это нравственность мысли и речи", а, во-вторых, "человек не может отказаться от прирождённого ему права быть судьёй среды, в которой он живёт, и дел, которые совершаются перед его глазами".)
И ещё — осталась пожизненно в душе моей благодарность старшим согражданам, обеспечивавшим мне и мне подобным достойную жизнь, возможность профессиональной самореализации. В их числе — замечательный человек, выдающийся учёный-практик, член-корреспондент Академии Наук Украины Борис Николаевич Малиновский, прославивший в начале шестидесятых годов украинскую науку (в образе Киевского Института кибернетики) пионерской разработкой полупроводниковой электронной вычислительной машины "Днепр", ставшей на то время лучшей из лучших разработок подобного рода. Отличало это инновационное чудо хитроумие его математической и конструкторской основы, изящество и простота инженерных решений и — самое главное — возможность его широкого применения не просто как мощного вычислителя, а как, вдобавок, разумного "управителя" в системах автоматизации производственных и технологических процессов, приборных испытаний, научных экспериментов и прочая и прочая.
Как сказал премудрый Соломон, "мудрость в порочную душу не входит". В смысле этой сентенции тем более интересен мне Борис Николаевич Малиновский, потомок церковнослужителей, что побуждает меня к морализации о том, насколько сильно такая родовая корневая система повлияла на развитие порождённого ею фамильного древа, на передачу его ростку-потомку христианской основы жизненных (прежде всего — семейных) ценностей.
В этом смысле представляет интерес начальная часть жизненного пути отца Бориса Николаевича, пора становления этого высокого интеллекта человека, талантливого и волевого, сумевшего получить высшее духовное и светское (историческое) образование, безусловно наделившего своего сына сильным характером, нравственным духом и острым умом, развитым тем с возрастом до степени обстоятельной житейской мудрости.
Часть первая.
Абрисы предыстории украинской электронной вычислительной техники
Нынешнему деятельному обывателю, в той или иной степени связанному с компьютерными технологиями, с микроэлектронными средствами коммуникации, трудно себе представить, что зарождение этого феномена человеческой цивилизации началось в сравнительно недавние — по исторической мерке — послевоенные годы в соревновании на опережение советских и американских наук, и киевские учёные к делу этому весьма основательно приложили свою руку. Обо всём можно прочитать в книгах, посвящённых истории становления и развития вычислительной техники, Борисом Николаевичем Малиновским написанных.
Пионерскую роль в деле разработке принципов устройства электронных вычислительных машин и их практической реализации сыграл Сергей Алексеевич Лебедев, 1902 года рождения. Его родовые корни тянутся из Костромского края, из тамошнего села Родники, где отец его, по окончании двухклассного церковно-приходского училища, некоторое время трудился конторщиком на местной текстильной фабрике, затем, после женитьбы на высокородной Мавриной, вышедшей из дворянского сословия и преподававшей в школе для девочек из недостаточных семей, переехал с ней в Нижний Новгород. Здесь у супругов Лебедевых родились три дочери и сын.
Дочь Татьяна впоследствии, под фамилией матери, стала известным, ярко выраженного народного стиля, художником, графиком, иллюстратором, создателем цикла зарисовок, посвящённых русским городам, их старинным архитектурным ансамблям, эскизов, декораций, театральных костюмов к театральным спектаклям, нескольким мультфильмам; прославилась оформлением пушкинских сказок, иллюстрациями собственных книг.

Сын Сергей пошёл в науку, стал выдающимся учёным в области теории автоматического управления и регулирования, в военные годы — был автором целого ряда разработок для танковой и авиационной техники. После десяти лет работы во Всесоюзном Энергетическом институте переехал в 1945 году в Киев, где, став республиканским академиком, с 1947 года возглавил академический Институт электротехники. Здесь в организованной Лебедевым лаборатории моделирования и вычислительной техники, под его непосредственным руководством была разработана и в 1950 году официально принята государственной комиссией первая в Советском Союзе (и в континентальной Европе) Малая электронно-счётная машина (МЭСМ).
Безусловно, выдающийся научно-технический прорыв, осуществлённый неординарным учёным, не был спонтанным явлением; ему предшествовало немалое количество теоретических разработок, конструкторских реализаций отдельных узлов, устройств автоматического счёта, выполненных в том числе и самим Лебедевым (таковой, к примеру, была его разработка аналоговой — sapienti sat! — вычислительной машины, использовавшейся в энергетике). Но только ему было суждено обобщить и развить имевшиеся наработки в области цифровой вычислительной техники и воплотить в мощную (по тем, стартовым временам) действующую вычислительную машину на электронных лампах.
В год лебедевского прорыва выпускник Ивановского энергетического института, молодой ветеран войны Борис Малиновский переехал в Киев и поступил в аспирантуру Института электротехники, тогда находившегося под началом замечательного украинского учёного в области автоматического управления и регулирования Алексея Григорьевича Ивахненко, прежде того трудившегося вместе с Сергеем Алексеевичем Лебедевым во Всесоюзном энергетическом институте.
Помимо всех его высоких научных достоинств тем близок мне этот талантливый человек (1913 года рождения, в городе Кобеляки Полтавской губернии), что в галерее выдающихся выпускников моего родного Ленинградского электротехнического института находится его портрет. И к разряду высокозначимых отнесён Алексей Григорьевич — за принципиально новые пути в теории и практике его любимой науки, имеющей богатейшую школу и высокопрофессиональных оценщиков научных достижений в его (и моей) alma mater.
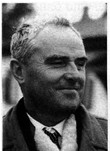
Под научным и административным крылом (но не при прямом участии) Алексея Григорьевича Ивахненко начал свой путь в науке Борис Николаевич Малиновский, продолжив его в творческом взаимодействии с Сергеем Алексеевичем Лебедевым. Уже работая в Московском электротехническом институте, Лебедев сохранил за собой творческий надзор за оставленной им в одноимённом Киевском институте лабораторией вычислительной техники.
Как её сотрудник, с подачи Лебедева, Борис Николаевич начал заниматься исследованием использования магнитных (ферритовых) элементов в цифровых вычислительных машинах. Исследование завершилось написанием кандидатской диссертации, успешно защищённой Малиновским в 1953 году (при положительном отзыве на неё академика Лебедева, выступившего в роли оппонента).
Лаборатория вскоре была преобразована в академический Вычислительный центр, в котором Борис Николаевич руководил отделом специализированных цифровых машин. В 1956 году вычислительный центр был переподчинён Институту математики с Борисом Владимировичем Гнеденко во главе. Уроженец Симбирска (1912 года рождения), сын землемера; выпускник физико-математического института Казанского университета и аспирантуры Московского университета, он свою научную жизнь посвятил теории вероятностей и математической статистике — и весьма в этих науках преуспел. (К слову, теорию вероятностей автор этих строк, обучаясь в Ленинградском электротехническом институте, осваивал по учебнику Гнеденко.)
Борис Владимирович некоторое время жил в одном городе с семьёй Малиновских — в тридцатых годах преподавал высшую математику в Ивановском текстильном институте. В 1945 году продолжил математический курс уже во Львовском университете, вплоть до 1950 года, когда был перекомандирован в Киев — руководителем только организованного отдела теории вероятностей и математической статистики в академическом Институте математики. Одновременно он заведовал университетской кафедрой математического анализа.
В 1955 году Гнеденко возглавил группу по организации Вычислительного центра, ядром которой были сотрудники академика Лебедева, руководил работами по проектированию универсальной машины "Киев" и специализированной машины, предназначенной для решения систем линейных алгебраических уравнений. Одновременно он разработал курс по программированию для электронных вычислительных машин, который начал читать студентам Киевского университета и который издал в виде отдельной книги (ставшей первым в Советском Союзе учебником по программированию, опубликованном в открытой печати). С 1956 года в течение двух лет, до переезда в Москву, он был директором Института математики Академии Наук Украинской ССР.
В 1956 году Гнеденко пригласил заведовать лебедевской лабораторией известного математика Виктора Михайловича Глушкова, трудившегося в одном из Уральских атомных предприятий, только защитившего докторскую диссертацию по одной из проблем высшей математики (простому человеческому уму, в том числе и моему, недоступной для минимального её понимания). С этого времени повёлся отсчёт совершенно блистательной научно-организационной деятельности этого экстраординарного человека в Киеве.

Виктор Михайлович Глушков родился в августе 1923 года в Ростове-на-Дону, окончил с золотой медалью школу в городе Шахты. С началом войны в армию призван не был по состоянию здоровья, маму его оккупанты расстреляли осенью 1941 года. После освобождения Донбасса его мобилизовали на восстановление шахт. С 1943 года Глушков учился теплотехнике в Новочеркасском индустриальном институте, с последнего курса которого (сдав экстерном экзамены физико-математического цикла) перевёлся в Ростовский университет. После распределения трудился на Урале, откуда и приехал в Киев.
Позже он вспоминал: "Я стал заведующим лабораторией вычислительной техники Института математики. Предполагалось, что лаборатория будет реорганизована в Вычислительный центр АН Украины, в соответствии с вышедшим в 1955 году постановлением о создании вычислительных центров в академиях союзных республик, в том числе в Украине".
Указанная реорганизация совершилась в Киеве в декабре 1957 года. Виктор Михайлович, как и задумывалось, стал директором Вычислительного центра Академии Наук Украинской ССР, позже — в 1962 году — преобразованного в Институт кибернетики с директорством в нём Глушкова. Помимо организационно-научной деятельности был Виктор Михайлович активен и в части педагогической — преподавал с 1956 года в Киевском Государственном университете, где читал на механико-математическом факультете курс высшей алгебры и специальный курс теории цифровых автоматов, а с 1966 года и до конца дней своих заведовал кафедрой технической кибернетики.
Как ведущий специалист Вычислительного центра Борис Николаевич Малиновский (вместе с коллегой Зиновием Львовичем Рабиновичем) выполнил разработку специализированного вычислительного комплекса обнаружения воздушных целей и наведения на них истребителей. Став автором идеи создания управляющих вычислительных машин широкого назначения (УМШН), кандидат технических наук (с 1953 года) Малиновский озвучил её устами своего директора и, с его благословения, приступил к конструированию электронной новинки.
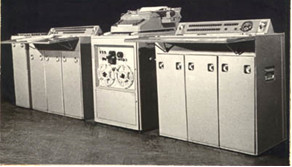
В 1961 году Государственная комиссия, принимая в эксплуатацию разработку Малиновского и его высокоумной команды специалистов, отметила:
"1. Машина УМШН является первой в СССР полупроводниковой управляющей машиной широкого назначения, предназначенной для контроля и управления рядом производственных объектов в различных отраслях промышленности, а также для изучения объектов. Кроме того, машина может использоваться как универсальная вычислительная машина средней производительности.
2. В машине имеется ряд оригинальных технических решений, реально обеспечивающих широкое назначение машины, секционность построения блоков памяти и коммутатора, программный обмен информацией между машиной и объектом, возможность подключения к нестандартным датчикам, электронный коммутатор сигналов и др."
Говоря о соучастниках этого великого дела (и не имея возможности всех их, воздав благодарность, описать), должен отметить Екатерину Логвиновну Ющенко (Грачёву), разработавшую программное обеспечение для созданного вычислительно-управляющего комплекса, прославившую своё имя как автор одного из первых в мире языков программирования высокого уровня. Родилась она в 1919 году, в Чигирине, в учительской семье. В 1942 году, находясь в эвакуации, в Ташкенте, окончила Среднеазиатский университет.
После войны работала она во Львовском отделе теории вероятностей Киевского Института математики, с 1950 года, после переезда в Киев, — старшим научным сотрудником этого института, а с 1957 года, перейдя под крыло Глушкова, стала заведовать отделением в Институте кибернетики.

Вычислительной математикой Екатерина Логвиновна занялась в 1954 году, когда разработала для пионерского детища Лебедева комплекс алгоритмов и программ решения задач внешней баллистики для ракетно-космических комплексов. Была она (вместе с Гнеденко) в числе соавторов учебника по программированию, по которому мне, студенту и будущему специалисту по разработке электронных вычислительных машин, довелось осваивать эту мудрёную научную дисциплину.
Итогом работы Государственной комиссии, принявшей в эксплуатацию вычислительный комплекс "Днепр", стало решение наладить его промышленное производство, что и было сделано в одном из цехов Киевского радиозавода. Скоро на прекрасно показавший себя в практических делах комплекс резко поднялся спрос, для удовлетворения которого было принято правительственное решение выстроить в Киеве завод вычислительных управляющих машин (ВУМ), позже реорганизованный в производственное объединение "Электронмаш".
Отечественная разработка управляющей машины широкого назначения была ещё тем замечательна для своего времени, что в негласном состязании с американскими разработчиками наша страна, в целом этот спор проигрывавшая, в указанной классификации электронных вычислительных машин впервые практически уравнялась с заокеанскими конкурентами. Десять лет длился выпуск этого прекрасного образца электроники и математики, и трудно назвать отрасль промышленности, науки, сельского хозяйства, обороны, космических исследований, где бы он успешно не использовался. И велика была слава Института кибернетики и им порождённого производственного объединения "Электронмаш" на всей территории Советского Союза!
Взрывной научный рост Бориса Николаевича Малиновского, с начала шестидесятых годов начавшийся, был отмечен защитой им докторской диссертации (в 1964 году), избранием членом-корреспондентом Академию Наук УССР по специальности "вычислительная техника"; он стал дважды лауреатом Государственной премии Украины, заслуженным деятелем науки и техники, был удостоен государственных наград.
С термином "кибернетика" (правда, преимущественно как "лженауки") в самых общих чертах познакомился в начале шестидесятых годов, когда, будучи активным и небесталанным учеником девятого класса средней (одиннадцатилетней) школы города Умань, озаботился выбором своей будущей профессии. Увлечённость математикой и физикой больше склоняла меня к инженерной, с электроникой связанной профессией. Дополнительно к такому решению подталкивала разгоревшаяся в стране нешуточной силы дискуссия о сравнительной значимости (или ценности) для общества "физиков" (молодых людей с преимущественно математическим складом ума) и "лириков" (сограждан с романтическим душевным уклоном).
В этом неформальном противостоянии представителей двух субкультур того времени явно первенствовали первые, чему способствовал бурный научно-технический и производственный прогресс страны, первой в мире прорвавшейся в космос, осваивавшей с толком свои необъятные пространства и недра, укрощавшей атом и сибирские реки, развившей машиностроение, приборостроение и прочая, и прочая. Об этом, в частности, в 1959 году писал, сокрушаясь недооценкой своих творческих собратий, поэт Борис Слуцкий:
"Что-то физики в почете.
Что-то лирики в загоне.
Дело не в сухом расчете,
дело в мировом законе.
Значит, что-то не раскрыли
мы, что следовало нам бы!
Значит, слабенькие крылья —
наши сладенькие ямбы,
и в пегасовом полете
не взлетают наши кони...
То-то физики в почете,
то-то лирики в загоне..."
Говоря о недооценке новой поэзии так называемых "шестидесятников", Борис Слуцкий несколько лукавит, ибо в ту пору свежая поэтическая поросль, преимущественно московской прописки, собирала на свои творческие рдения толпы почитателей — на стадионах, у памятника Маяковскому, в Большой аудитории Политехнического института. (К слову, в Московском Политехническом музее как выдающееся достижение советской науки и техники экспонируется управляющая машина широкого назначения "Днепр".)
"В Политехнический!
В Политехнический!
По снегу фары шипят яичницей.
Милиционеры свистят панически.
Кому там хнычется?!
В Политехнический!"
В результате долгого перебора вариантов я остановился на Ленинградском электротехническом институте, в который поступил в 1964 году, завершив обучение в нём в 1970 году получением диплома, с записью в графе специальности — "Электронные вычислительные машины".
И так распорядилась мной судьба, что, призванный в звании "лейтенанта" на два года армейской службы в вычислительный цент ракетных войск стратегического назначения, располагавшийся в городе Аральске, был поставлен там на техническое обслуживание ЭВМ "Днепр". За время службы несколько раз выезжал в командировку в Киев, на завод вычислительных управляющих машин (ВУМ), согласовывать свои доработки. Был, как специалист, замечен заводчанами и по окончании службы приехал в Киев, работать в специализированном управлении электронных вычислительных машин, созданном для внедрения продукции завода, для разработки конкретным получателям прикладного программного обеспечения.
Первый год отработал на Харьковском тракторном заводе, где с помощью ЭВМ "Днепр" управлялся главный конвейер сборки мощных колёсных тракторов (ныне — разрезан и сдан в утиль новым владельцем завода). Так сложилось, что к стандартному вычислительному комплексу пришлось подключать новое, для него нестандартное устройство быстрой печати. Оснастившись хорошо мне знакомым учебником Глушкова "Теория конечных автоматов", это устройство разработал и запустил в эксплуатацию.
Был за этот научно-производственный подвиг обласкан руководством управления и назначен командовать большой командой (участком) программистов. В новом качестве немало потрудился, внедряя разработки Института кибернетики и продукции достославного завода ВУМ. Более других запомнилась автоматизированная система управления палубными антеннами кораблей, обеспечивавших связь Центра управления полётами с пилотируемыми космическими аппаратами, когда те находились вне территории Советского Союза. Эти корабли имели порт приписки Одессу, на одном из них ("Космонавт Юрий Гагарин" с видом на "Космонавт Владимир Королёв") запечатлел меня мой коллега-программист летом 1973 года. (К слову, эти корабли-красавцы сгнили в морских водах у одесского причала в девяностые годы ушедшего века.)
Выпуск прекрасных вычислительных комплексов "Днепр" прекратили по непонятным для моего сознания специалиста причинам где-то в начале семидесятых годов. Завод ВУМ расширился, занялся выпуском новых разработок Института кибернетики, уступавших (по моему убеждению) знаменитому "Днепру". Дальше — хуже. В московских верхах вдруг вызрело совершенно глупое, негосударственное решение перейти на копирование американской вычислительной техники и к делу этому подключили производственное объединение "Электронмаш". Окончательно всё перечеркнула так называемая "перестройка".
Очное знакомство с Борисом Николаевичем Малиновским состоялось много-много лет спустя, когда, уже войдя в возраст седин, волею судьбы встретился с ним в Киевском Доме учёных (как председателем его Совета) и, сойдясь накоротко с почтенным кибернетическим мэтром, был очарован им безмерно. С первых минут общения оценил его не только как учёного, мной глубоко чтимого, но и как человека цельного характера, высокого умственного и нравственного уровня, столько видевшего и пережившего на своём мафусаиловом веку, что из событий его жизненного пути можно составить летописный свод эпохи, в пору которой достоинство личности соединялось с достоинством страны и высоко стояли понятия чести, дружбы, справедливости, порядочности и взаимопомощи в межчеловеческих отношениях.
"В реке, что жизнью называем,
И мы — зеркальная струя
И мимоходом отражаем
Все впечатленья бытия".
Итогом первых встреч с мудрым, обстоятельным, бесконечно добрым Борисом Николаевичем возникло у меня острое желание написать о нём, как об учёном и неординарном человеке — о его жизненном пути, о его родовых истоках. Тем более что подталкивает меня к этому неизменно наивная надежда, что прекратится со временем духовная и интеллектуальная деградация общества, что имена лучших его представителей прошлого будут востребованы и оценены благодарными, нравственными потомками. "Мечты, мечты, где ваша сладость?"
Часть вторая. История рода
Родился Борис Николаевич Малиновский 24 августа 1921 года в семье Николая Васильевича и Любови Николаевны Малиновских, на время рождения сына учительствовавших на малой родине главы молодого семейства, в старинном костромском городке Лух, тогда входившем в состав Иваново-Вознесенской губернии. Помянутая территориальная единица, "собранная" из сопредельных волостей Костромской и Владимирской губерний, была учреждена после революции, в июне 1918 года, и просуществовала до 1929 года, когда была преобразована в Ивановскую область.
По этой причине, вопреки указанному административному переделу, следует относить малую родину Бориса Николаевича (как и его отца) — по историческим, этническим, культурным связям и традициям, по духу её — к Костромской земле, давшей почву родовым корням его фамилии, но никак не к новому областному центру Иваново, в прошлом — только сельцу во Владимиро-Суздальском крае.
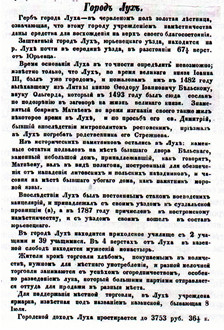
Старинное наименование этого финно-угорского края, перешедшее (в 1152 году, усердием князя Юрия Долгорукого) в название его новоявленного центрального города, историки определяют несколькими формулами, одна из которых увязывает его с древнеславянским божеством Костромой. Произошло это в пору, когда пассионарные потомки Ярослава Мудрого, стеснённые тем учреждённой громоздкой и неоднозначной схемой лествичного наследования (от брата к брату, а не от отца к сыну), утомлённые ею вызванными междоусобицами, устремились за новыми землями в верхневолжские края, где сформировали вскорости свой новый центр — Владимиро-Суздальскую Русь.
Именно так действовал Юрий Долгорукий, третий сын Владимира Мономаха, за пять лет до учреждения Костромы основавший Москву (хотя к исходу своего княжения добился причитающегося ему Киева, в котором и закончил дни свои в 1157 году и был погребён в Выдубицком монастыре). С перенесением центра Руси на север переносились, как указывает Лев Николаевич Гумилёв, и названия для вновь учреждаемых городов — Галич, Переяслав, Холм...
Касательно происхождения названий Костромы, Галича и других населённых пунктов края иной точки зрения (связанной с прошлым коренного населения края) придерживался известный археолог и историк, Михаил Яковлевич Диев.
"Чудь начудила, да Меря намерила
Гатей, дорог да столбов верстовых..."
(Александр Блок)
Сын священника, воспитанник Костромской духовной академии, Михаил Яковлевич Диев (1794 года рождения) долгие годы служил протоиереем в Троице-Сыпановом монастыре города Нерехты Костромской губернии и одновременно был законоучителем и наблюдателем преподавания Закона Божия в Нерехтских мужском и женском училищах. Педагогику активно совмещал с изучением исторического прошлого Костромского края, влиянием на его культуру традиций древних финно-угорских народов, населявших эти земли до прихода славян, сохранением традиций древнего финно-угорского народа мерян костромской территории. По его мнению, на основе древнего мерянского наречия возник особый язык жителей города Галича Костромского уезда — елтонский (елманский):
"При переселении народа Мери из здешней стороны (т.е. Костромской губернии) за реку Оку в XII в. нельзя предполагать, чтобы из этого народа никого уже не осталось на прежнем месте, в Костромской стороне. Доказательством этого неоспоримо могут служить названия мест в Костромской губернии, как городов, селений, рек, которые носят имена не славянскаго языка, а финского и других наречий, большей частью ныне непонятных, то есть для славян. Здесь жил совершенно другой народ. Доныне в Костромской и смежных с нею губерниях в народе употреблен язык, не похожий на славянский, или русский, оставшийся в народе таинственным. Под названием в Нерехте Елтонского (елтын-безмен: язык безменников); этому языку одолжены названия здешних городов: Кострома, (костр, кострыга, город; прибавьте к этому Мордовское Мае. Красивый, следовательно, Кострома значит красивый город), Галича (из слов: галь, многолюдный, обрусевшее гиль; например, доселе говорят "галь народа", то есть многолюдно. Костргалея значит многолюдный город), Кинегимы (спокойная, красивая пристань; киншить, приставать, спокойно стоять), Луха реки и города (лох по елтонски значит сосед, соседний), Олонецка (от слова олоно, давно, то есть старинный город). Ходячая монета в Костромской стороне зовется раги, что самое на древнем Финском значит деньги. На этом языке слово шунге значит песенник, песня. Следовательно, Шунга, село в 8 верстах от города Костромы, означает селение песенников".
В составленных им на склоне лет воспоминаниях помянул Диев многих значимых для него людей, с которыми пересекался и соприкасался на своём жизненном пути — историк Дмитрий Николаевич Бантыш-Каменский, литератор и историк Михаил Петрович Погодин, издатель "Отечественных записок" Павел Петрович Свиньин, министры народного просвещения граф Сергей Семёнович Уваров и князь Платон Александрович Ширинский-Шахматов... Описал Михаил Яковлевич, как у помещицы села Есипова (в десяти километрах от Нерехты расположенного) Марьи Семёновны Аже он встретился на Страстной неделе 1817 года с её внуком Александром Карловичем Бошняком, ботаником и писателем, подружился с ним.
Позже Бошняк переехал в Елисаветград, где "прославился" доносом на будущих декабристов: "В 1825 году, когда осенью император Александр путешествовал в Крым, и когда находился в Елисаветграде, то, при содействии графа Витта, управлявшего военным там поселением, Александр Карлович, допущенный до аудиенции, открыл Государю о заговоре заменить монархическое правление России республиканским".
В предисловии к этим воспоминаниям краевед Андрей Александрович Титов даёт прелюбопытнейшую (для семьи Бориса Николаевича Малиновского) информацию о том, как заканчивал свою пастырскую деятельность протоиерей Диев, переживший в 1865 году апоплексический удар и написавший по этой причине прошение об отставке:
"На вышеизложенном прошении о.Диева последовала резолюция преосвященного Платона: "1865 г. Августа 12 дня: 1) согласно прошению достопочтеннейший о. протоиерей увольняется от обязанностей приходского священника, благочинного церкви Сыпановой слободы и депутата при испытании в светских училищах; 2) церковь с. Сыпанова причислить ко второму благочинническому Нерехотскому округу; 3) на праздное священническое место перемещается священник Чухломского уезда, села Михайловского Василий Малиновский".
Из последней ремарки напрашивается предположение, что помянутый выше сменщик Диева являлся прапрадедом Бориса Николаевича Малиновского, чей дед, священник Василий Иванович Малиновский, родившийся в 1864 году, был внуком переехавшего из Чухломы в Нерехтский округ священника. Но такая посылка остаётся только гипотезой, фактами не подтверждённой, тем более что фамилия Малиновских была достаточно распространённой в среде духовенства Костромской епархии.
Одним из первых её носителей, представленных в списке учеников Костромской духовной семинарии 1782 года значится некий Стефан Михайлович, сын пономаря Воскресенской церкви посада Большие Соли Нерехтского духовного управления, Михаила Алексеева. Перемена фамилии Алексеев на Малиновский свидетельствует о том, что — согласно бытовавшему тогда (вплоть до середины девятнадцатого века) обычаю — поступавшим в семинарию ученикам её ректор мог присваивать новую фамилию.
Иногда он просто переводил на латынь или древнегреческий язык фамилию ученика (так из Надеждина появился Сперанский), иногда, дав волю фантазии, назначал новообращённым фамилии духовного (Рождественский, Вознесенский, Воскресенский) или какого-либо другого смысла (подобно Малиновскому ягодную фамилию Вишневский получил более поздний выпускник семинарии, прежде бывший Козыревым).
Есть также версия польского происхождения этой фамилии, увязывающая её корневую основу с городом Малин, расположенном неподалёку от Житомира, есть и другие предположения, одно другого (по мнению авторов) убедительнее. Что ж — "хороший довод лучшему уступит".
Корни предков Бориса Николаевича Малиновского покоятся в священнической среде Костромского края и, кажется, имеют весьма значительное проникновение в его прошлое, если судить по значительному количеству Малиновских среди священнослужителей (и церковнослужителей) Костромской губернии. Первым приметным корешком в родословном древе фамилии является псаломщик Семён, чей сын Иван (по факту 1890 года) также служил псаломщиком в церкви Казанской иконы Божией Матери в селе Макарьевское. Должность псаломщика относилась к низшей, "обслуживающей" ступени в "иерархии церковных должностей, квалифицировавшихся как "церковнослужители".
Чтобы стать православным священником Василию Ивановичу Малиновскому пришлось три года осваивать начала знаний в духовной (или церковно-приходской) школе уездного города Кинешмы, а затем ещё шесть лет учиться в местной духовной семинарии. Прежде его родной город Лух был уездным городом, имел своё духовное управление, свои начальную школу и семинарию, но в 1854 году духовное управление переместилось в Кинешму, и вместе с ним переместились в этот приволжский город духовная школа и семинария.
(Лухское духовное управление было открыто в 1776 году в братских кельях Тихоновой пустыни и "обслуживало" приходские церкви Лухского, Кинешемского и Шуйского уездов. Кинешемцы хотели иметь управление у себя, но им было отказано по причине отсутствия там монастыря и отдаленности от границ Суздальской епархии. С 1787 года Лухское духовное правление находилось в ведении Костромской епархии. В 1791 году в стенах монастыря было открыто духовное училище, которое готовило кандидатов на замещение низших церковных должностей.)
Получить место священника в церкви при погосте города Лух Василий Иванович Малиновский мог по одному из трёх способов. Во-первых, место священника могло стать вакантным после кончины бездетного прежнего настоятеля этого храма. Во-вторых, молодой священник мог унаследовать священническую должность от отца. И наконец, в случае, если у предшествующего священника не было сына, а была только дочь (или дочери), то он мог выдать её замуж за молодого священника и тем передать новоиспечённому зятю, через дочь, в наследство свой приход.
Как схема стабилизации или улучшения имущественного положения сельских духовников в приходах утвердилась практика наследования церковных должностей, отвечавшая интересам многодетных семей церковнослужителей и священнослужителей, нередко имевших дом, либо выстроенный семейными усилиями на церковной земле, либо ими приобретённый у предшественника по должности.
Закрепить дом за семьёй после ухода за штат служитель мог, передав одному из своих сыновей должность в приходе, либо выдав замуж свою дочь за человека, могущего занять освободившееся ("праздное") место. В то же время светские власти всячески стремились уменьшить число служителей в приходах, то укрупняя их, то ликвидируя малые, либо сокращая в них штаты. Преследуя цели увеличения собираемости налогов с населения, власти стремились в проводимых ревизиях выявить "лишних" церковников, живущих при приходах, но не состоящих на штатных должностях.
Вступление в брак являлось обязательным при определении на должность священника или дьякона. И хотя во второй половине девятнадцатого века имели место случаи, когда будущие священнослужители вступали в брак с представительницами не своего сословия, наиболее удачными по-прежнему считались внутрисословные семейные союзы. Отмечалось, что священник лучше всего может найти поддержку в своей жене, выросшей в духовной семье, с детства исполнявшей церковные уставы. Брачные союзы были формой поддержания этой замкнутости, формой выживания её представителей, поддержания корпоративного союза.
Василий Иванович Малиновский, 1864 года рождения, два десятка лет (с 1890 по 1910 год) был настоятелем Вознесенской церкви при погосте села Лазорево Вознесенье Лухского округа Кинешемской епархии. (Эта каменная, "при каменной ограде", весьма внушительных — для провинции — размеров церковь была воздвигнута при попечении Александры Куломзиной и Екатерины Мусиной-Пушкиной и при их участии была освящена в 1812 году. До наших дней "не дожила" — была разобрана на строительные материалы в послевоенные годы.)
По меркам того времени семья отца Василия и матушки Софии Малиновских была малочисленна — кроме первенца Николая (1887 года рождения), была ещё дочь с редким и красивым именем, Павла. Её, красавицу-юницу с ясным, умным взглядом больших, чуть навыкате глаз можно видеть на старинном, 1910 года выпуска, фотоснимке в компании с братом, студентом Петербургской Духовной академии, приехавшим к родителям на каникулы. Выглядит Николай Малиновский — статный, рослый, с гордой посадкой головы — большой энергетики человеком, сильным, уверенным в себе, в своей духовной и физической силе. Высокое чувство собственного достоинства этого молодого человека, донесенное до нас старинным, чёрно-белого формата снимком, имело под собой прочную основу — на время фотографирования был он не только студентом-духовником, но и одновременно вольнослушателем столичного института археологии. Было в его планах, к этому времени сформировавшихся, отказаться от традиционного наследования духовного сана отца, заняться педагогикой, историей, краеведением и архивным делом, и он — с упорством человека редких волевых качеств — добивался поставленной цели.
Для любопытствующего исследователя прошлого являет собой Николай Васильевич Малиновский представителя того слоя русской интеллигенции, чьи добрые прошлые дела, увы, утонули в потоке времени, оставив по себе скромный внешний след в семейных архивах, фотоальбомах, в устных родовых воспоминаниях. Но, дополнив основательно эти скудные сведения выдержками из старых журналов, книг, воспоминаниями современников, можно — при желании — составить представление о давних животворных делах таких неординарных личностей, об их умственных интересах и широте интеллектуального кругозора, о круге знакомых, коллег, единомышленников в пору их жизненной активности. Всё это, суммарно, создаёт вокруг нетленных духовных образов такого класса людей особую историческую ауру, порождает уважение к ним со стороны небезразличных к прошлому потомков.
Духовенство формировалось в особой среде, при этом едва ли не решающее влияние на формирование священнослужителя оказывала не семья, а духовная школа. В восемь — девять лет мальчик уезжал от родителей в город для обучения в духовном училище, а затем в семинарии. На долгих десять лет он оказывался без родительского внимания и опеки. Именно в духовной школе формировался православный священнослужитель, в то время как дети из иных сословий могли постоянно учиться будущей социальной роли, оставаясь в семье, в кругу домочадцев.
Часть третья. Учёба в Костромской семинарии
Семилетним, в 1893 году, отправили родители Николая Малиновского к родственникам в город Юрьевец-Волжский, живя у которых, он два года обучался в духовном училище города Кинешма, расположенном в тридцати верстах от Юрьевца (в Юрьевце существовала только женская гимназия, основанная в 1899 году; в своё время, с 1792 года духовное училище существовало в Лухе, но в 1844 году было переведено в Кинешму). По завершении начального духовного образования был юный Малиновский отправлен родителями в Костромскую семинарию, где безвыездно (как свидетельствует хроника его семьи) прожил, обучаясь, семь лет, огорчаясь родительским отсутствием и невниманием.
Семинария была средним учебным заведением, кроме богословских дисциплин в ней преподавались и светские дисциплины в объеме классической гимназии. В соответствии с Высочайше утвержденным Уставом 1867 года семинария состояла из трех двухгодичных отделений. На низшем отделении изучались российская словесность, алгебра, геометрия, всеобщая история, латинский и греческий языки, катехизис, пасхалия, введение в литургику и Священное Писание Ветхого Завета. В среднем отделении — логика, психология, естествознание, физика, русская история, библейская история, герменевтика, патристика, Священное Писание Ветхого Завета и древние языки. На высшем отделении семинаристы усваивали догматическое богословие, Священное Писание Нового Завета, нравственное богословие, пастырское богословие, обличительное богословие, литургику, гомилетику, каноническое право, общую церковную историю, историю Русской Церкви, а также — немецкий и французский языки, начала медицины и сельского хозяйства.
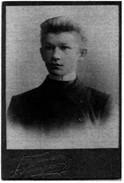
Основанная в 1747 году, Костромская семинария долгое время размещалась в Ипатьевском монастыре и только в 1866 году обрела своё помещение усилиями епископа Платона (Фивейского), купившего у купцов Стригалевых несколько зданий, стоявших на берегу Волги, на улице Верхней Набережной. Постепенно, по мере обустройства, на этой улице возник целый комплекс семинарских зданий, включавший в себя учебные, жилые и хозяйственные корпуса. Перед семинарией был разбит сад. Уже в 1868 году в одном из помещений семинарии появился храм во имя Всех Святых, а позднее, в 1878 году, был устроен разместившийся в верхнем этаже общежительного корпуса несравненно более обширный, с хорами храм во имя Сретения Господня. С 1887 года при семинарии стала действовать образцовая церковно-приходская школа.
Все то время, что семинария находилась на Верхней Набережной, она была одним из главных очагов культуры губернской Костромы. Хор духовной семинарии традиционно проявлял себя одним из лучших в епархии, уступая лишь архиерейскому хору. Большой известностью пользовались у костромичей художественные вечера и концерты, устраиваемые семинаристами (в конце мая 1899 года семинария отметила столетний пушкинский юбилей заупокойной литургией и большим концертом, на котором семинарский хор исполнил гимн в честь великого поэта).
Семинария являлась и одним из центров епархиальной жизни: в ее актовом зале в конце девятнадцатого начале двадцатого веков проходили ежегодные епархиальные съезды духовенства, проводились собрания действовавшего при епархии Церковно-Исторического общества и так далее. Семинарию обычно посещали приезжавшие в Кострому видные деятели Церкви, например, 5 октября 1902 года её посетил знаменитый протоиерей отец Иоанн Кронштадский, часто бывавший в Костромском крае.
Счастливо убереженная от всех пожаров, фундаментальная библиотека семинарии по праву считалась одной из самых богатых в губернии. Пополняясь нередко за счет пожертвований костромских архиереев, преподавателей и именитых выпускников, она имела большое количество духовной и богослужебной литературы, множество книг по всем отраслям человеческих знаний. Среди книг библиотеки было немало старопечатных изданий XV — XVIII веков, старинных рукописей, книг на латинском и греческом, на многих европейских и восточных языках, включая китайский, персидский, турецкий и так далее.
На рубеже XIX и XX веков ректорскую должность в семинарии отправлял выдающийся церковный историк протоиерей Иоанн Сырцов. Владыка Виссарион постоянно посещал семинарию, проводил службы в семинарском храме, присутствовал на экзаменах.
При нём семинария отметила — 24 и 25 сентября 1897 года — свой полуторавековой юбилей. В эти дни перед ликом принесенной в семинарский храм Феодоровской иконы Божией Матери епископом Виссарионом "в сослужении" большой группы духовенства, при пении двух хоров — архиерейского и семинарского, была отслужена литургия и провозглашена вечная память основателю семинарии епископу Сильвестру и ее дальнейшим устроителям, епископам: Геннадию, Дамаскину, Симону и архиепископу Платону, перенесшему семинарию на Верхнюю Набережную. Были молитвенно помянуты все руководители и преподаватели семинарии и все обучавшиеся в ее стенах за полтора века...
Но было бы неверно представлять, что всё в жизни семинарии этого периода было благополучно. Политические бури начала двадцатого века не могли миновать и ее — несколько раз в это время семинарию сотрясали волнения и забастовки, во время трагического столкновения 19 октября 1905 года на городской площади был зверски убит семинарист. Его гибель на какое-то время вынесла семинарию чуть ли не в центр политической борьбы в Костроме тех дней, явившись своего рода зловещим предзнаменованием будущей судьбы всей семинарии. Вообще, весь последний период жизни семинарии конца XIX — начала XX веков предстает сейчас перед нами незримо окрашенным трагическим духом предчувствия того, что ожидало впереди и саму семинарию, и огромное большинство ее выпускников.
Часть четвёртая. Учёба в Санкт-Петербургской духовной академии
Окончив в 1908 году Костромскую семинарию, Николай Малиновский уехал в Петербург набираться знаний в Духовной академии, находящейся в Александро-Невской лавре. Знания, ею даваемые своим слушателям, были основательными — широкими и глубокими. Помимо богословских и философских предметов, читались курс языков, палеографии, истории русской литературы, древнееврейского языка и библейской археологии, а также всеобщей и российской гражданской истории, сравнительного изучения западных исповеданий, истории и обличения русского раскола.
До начала девятнадцатого века семинария и академия — как две ступени образования — не различались, в той и другой учебные планы и программы были одинаковы, но лучшие из этих учебных заведений именовались академиями — Киевская, Славяно-греко-латинская. В конце восемнадцатого века, без каких-либо изменений системы преподавания, ранга академии были удостоены Казанская и Петербургская семинария. На вершине духовного учебного олимпа того времени находились Киевская, Московская, Петербургская академии и Троицкая семинария. В эту — дореформенную — пору в академии принимались подростки, имеющие начальное образование, то есть умеющие читать, писать, считать. Воспитанники как семинарий, так и академий, проучившись восемь классов (но не лет, коих могло быть от одного до пяти лет на класс), получали полное на то время образование.
Особенностью духовной школы восемнадцатого века — будь то семинария или академия — являлось основательное изучение латинского языка, на который, в начале обучения, припадала львиная доля занятий, далее же все прочие дисциплины читались на латинском. Ещё одной характерной особенностью старой школы было изучение разных наук в последовательности, поэтому классы назывались по осваиваемым предметам. Названия старших классов — риторика, философия, богословие — можно встретить в гоголевском "Вие", в котором очень выразительно даны отличие ритора от философа, а философа от богослова: уже пробивающиеся усы и борода у одного, у другого - ломающийся голос. Богословие изучали только в восьмом классе, который продолжался не менее двух лет.
Реформа духовного образования, исполненная в 1808 году под началом бывшего семинариста Михаила Сперанского, утвердила начальные школы как начальную ступень образования для детей духовенства. Конечная ступень среднего образования - шестиклассная духовная семинария, в которой класс уже соответствовал одному году обучения. Высшее образование давала духовная академия, обучение в которой выстраивалось по образу и подобию немецкого богословия.
Утверждённая Александром I реформа началась со старой Санкт-Петербургской академии, которая обратилась в семинарию, над которой был надстроен "верхний этаж" — новая духовная академия, по-прежнему располагавшаяся в Александро-Невской лавре.
Годы обучения Николая Малиновского в Петербургской духовной академии были временем великих потрясений во всех слоях общества, в том числе в среде духовенства. В Академии под председательством епископа Сергия проходили религиозно-философские собрания. В них, при участии выдающихся представителей русской творческой интеллигенции "Серебряного века" Александра Николаевича Бенуа, Василия Васильевича Розанова, Дмитрия Сергеевича Мережковского, Валентина Александровича Тернавцева, князя Сергея Михайловича Волконского, профессоров Академии протоиерея Сергея Александровича Соллертинского, Петра Ивановича Лепорского, Александра Ивановича Бриллиантова дискутировались проблемы брака, отношения христианства и античной культуры, понимания власти и церковно-государственных отношений.
Представители Церкви воспринимали эти собрания лишь с позиции возможности миссионерства среди интеллигенции с целью возвращения ее в лоно православия. Собственно, это и было причиной, по которой обер-прокурор Константин Победоносцев вначале дал разрешение на проведение собраний. Однако увидев, что миссия среди "заумного люда" неэффективна, он же вольнодумные собрания запретил.
Выходцы из семей духовенства под влиянием либеральных идей не выказывали особой склонности следовать по пути отцов. Окончив семинарию, они поступали в военные училища и университеты или же на государственную службу. Сами родители все больше стремились отдавать своих сыновей не в духовные, а в светские учебные заведения. Для лиц других сословий труд священнослужителя не представлялся заманчивым, лишь немногие идеалисты были готовы идти наперекор общественным течениям и пополняли редеющие ряды духовенства.
Большое число священников и диаконов, пожелавших после революции 1905 года стать вольнослушателями или студентами университетов, показывает, что жажда знаний в среде белого духовенства была велика. Летом 1908 года Святейшему Синоду пришлось издать указ, запрещавший священникам и диаконам обучение в высших учебных заведениях, потому что оно "не соответствует непосредственным и истинным задачам пастырского служения".
В целом, духовенство с начала двадцатого века постепенно становилось в оппозицию к царской власти, стремясь освободиться от государственного надзора и опеки, получить возможность самоуправления и самоустроения. Это освобождение отождествлялось с падением царской власти, о чём весной и летом 1917 года духовенством делались признания как в устных проповедях, так и в церковной периодической печати.
Действия, предпринимаемые представителями епископата в предреволюционные годы, были направлены на "десакрализацию" власти российского самодержца. Они сводились к укоренению в сознании паствы представлений о царе не как о духовно-харизматическом лидере народа и помазаннике Божием, а как о мирянине, находящемся во главе государства. Духовенство (в частности, члены Синода Русской православной церкви) стремилось обосновать, что между царской властью и какой-либо формой правления нет никаких принципиальных отличий, поскольку "всякая власть — от Бога".
В 1912 году Николай Малиновский завершил обучение в Петербургской духовной академии и был удостоен степени кандидата богословия второго разряда. Получавшие первый разряд выпускники становились соискателями степени магистра богословия без нового устного испытания. (С 1884 года наиболее успешно окончившим духовные академии выпускникам присваивались степени, остальным — звания "действительный студент". С этого же времени по результатам защиты диссертаций присуждались степени: "доктор богословия", "доктор церковной истории" и "доктор канонического права".)
Часть пятая. Учёба в Императорском археологическом институте
Помимо высшего духовного образования, получил Николай Васильевич Малиновский и второе, светское образование — в Императорском археологическом институте, расширившее и углубившее его и без того немалые знания, давшее тонкую шлифовку его интеллекту, подготовившее его к возможной научно-изыскательской деятельности в архивистике, коей он, судя по всему, намеревался заняться по возвращении в родной город.
Возникновением своим, случившимся в 1878 году, помянутое частное научное и учебное заведение было обязано инициативе и усилиям Николая Васильевича Калачова российского историка, правоведа, археографа, архивиста, академика Петербургской Академии Наук, автора трудов по теории и практике архивного дела, публикаций памятников древнерусского права.

Институт, при двухгодичном сроке обучения в нём, готовил археологов и архивистов, принимались в него лица с высшим образование. До 1899 года обучение было бесплатным, более того — нуждающиеся получали пособия. Окончившим курс давалось звание действительного члена института либо члена-сотрудника (вольнослушателя). Примечательно, что в отдельные годы в стенах Санкт-Петербургского археологического института среди студентов было до трети выпускников средних и высших духовных заведений. Известно, что в 1897—1898 учебный год из ста сорока восьми слушателей сорок семь имели высшее образование, полученное в Санкт-Петербургской духовной академии.
Положение 1899 года разделило все предметы на основные и неосновные. К основным относились славяно-русская археография, славяно-русская палеография, архивоведение, первобытная археология (в особенности русская), христианская археология (памятники искусства, особенно византийские и русские), юридические древности, историческая география и этнография России, нумизматика (особенно русская), дипломатика. Неосновными предметами, которые слушать было необязательно, стали польско-литовские древности, греческая и латинская палеография.
Положение также разрешало институту с ведома Министерства народного просвещения открывать "чтения и по другим отраслям древневедения". Кроме того, по Положению 1899 года, для вольнослушателей была введена плата за обучение в размере тридцати рублей. Впоследствии плата за обучение была введена для всех студентов, а Совет института получил право устанавливать размер платежа.
Институт издавал "Сборник Археологического института" (1878 — 1898 годы) и "Вестник археологии и истории" (1885 — 1918 годы). В апреле 1905 года институту Высочайше было даровано наименование Императорского и в таком качестве он в 1922 году был преобразован новой властью в Отделение археологии и истории факультета общественных наук Петроградского университета.
Открытие археологического института пришлось на время, когда его учредитель (и первый директор), уже тринадцать лет возглавлявший Московский архив Министерства юстиции, имел богатый практический и научный опыт в архивистике, позволивший ему органично "дописать" её к археологии, включить её тематику в число дисциплин, изучаемых в новом учебном заведении (и тем добавить институту веса в глазах специалистов). Совмещая текущую работу в министерстве с институтским директорствованием, Калачов, без отрыва от этих занятий, разрабатывал систему ведения архивного дела в России, находившуюся в самом примитивном состоянии, при котором "залежавшиеся" документы в ведомственных архивах банально уничтожались.
С целью искоренения такого явления Калачов предложил создать губернские Архивные комиссии и первые четыре успел при жизни учредить. Последнюю, Костромскую губернскую комиссию, основал незадолго до кончины, в 1885 году, при содействии своего брата, костромского губернатора Виктора Николаевича Калачова.
Участники её учредительного собрания определили направления работы комиссии, в первую очередь — разбор архивов местных присутственных учреждений и монастырских архивов; исследование исторических памятников, находящихся в частных руках; археологические раскопки городищ и курганов; образование при комиссии музеев "доисторических древностей"; привлечение к работе в комиссии в качестве членов или корреспондентов лиц, занимающихся педагогической деятельностью, из духовенства и "вообще, любителей старины".
Выступивший на собрании видный церковный историк Николай Васильевич Покровский поставил Комиссии задачу всестороннего исследования памятников архитектуры, живописи и этнографии, подчеркнул неразрывную связь художественных памятников Костромы с памятниками Московской Руси шестнадцатого — семнадцатого веков.

В составе комиссии были представлены все слои тогдашнего провинциального общества: не состоящие на государственной службе помещики, чиновники, земские начальники, становые приставы, чины полиции, лица духовного звания, преподаватели учебных заведений, врачи, инженеры, юристы, сотрудники местной прессы, купцы, фабриканты. Богатые промышленники, купцы и помещики, владельцы крупных костромских, кинешемских и нерехтских льнопрядильных и бумаготкацких фабрик Брюхановы, Горбуновы, Зотовы, винокуренных заводов — Третьяковы привлекались в комиссию, прежде всего, в расчёте на пожертвования, и те не скупились. Научный вес в местном обществе и столичных кругах Костромской губернской архивной комиссии придавала группа почётных членов, в числе которых в разные годы были известные российские историки.
Первые годы, по причине безденежья, основное внимание комиссии было сосредоточено на ограниченном круге задач — разборе дел "присутственных мест" и формирование собственного исторического архива, который начал активно наполняться. Комиссия установила контакты с архивами центральных учреждений России с целью комплектования своего архива копиями документов, относящихся к истории края.
Отметившийся выступлением на учредительном собрании Костромской архивной комиссии Николай Васильевич Покровский с 1898 года исполнял обязанности директора Археологического института и в этой должности пребывал в пору обучения в институте своекоштного студента Малиновского. Был значим, высоко образован церковный историк Покровский — тайный советник, археолог, профессор Санкт-Петербургской духовной академии, один из составителей "Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона". В институте он преподавал Христианскую археологию (Памятники древне-христианские, история Византийского и русского государства).
Родился Николай Васильевич Покровский в 1848 году в семье священника, окончил Костромскую духовную семинарию, далее (в 1870 — 1874 годах) учился в Санкт-Петербургской духовной академии, по окончании которой был оставлен на кафедре церковной археологии и литургики.
Основными вопросами научной деятельности Николая Покровского были церковная археология и древнехристианское искусство. Он одним из первых в русской науке при изучении византийско-русского и древнехристианского искусства обратил внимание на отношение искусства к учению Церкви и текстам литургии, внёс в науку богатые материалы православно-восточного происхождения, восполнив этим западные исследования.
Подобно высокоумному директору института, был звёздным и его преподавательский состав. Вглядываясь в лучащиеся разумом лица этих людей на старинных фотографиях, вчитываясь в их научные и педагогические послужные списки, начинаешь понимать и оценивать высочайший уровень даваемых ими знаний, меру прелести интеллектуального общения с ними студентов, в том числе — Николая Малиновского.
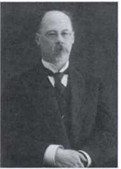
Славяно-русскую археографию (вспомогательную историчес-кую дисциплину, разрабатывающую теорию и практику издания письменных источников) преподавал Владимир Владимирович Майков (1863 года рождения). Доводился он племянником поэту Аполлону Николаевичу Майкову ("Порывы нежности обуздывать умея, на ласки ты скупа...") и историку русской литературы, академику Леониду Николаевичу Майкову (выдвинувшему историческую точку зрения на происхождение русских былин). С 1886 года он по вольному найму работал в Археографической комиссии — исследовал древнерусские рукописи и заведовал библиотекой (до 1930 года).
С 1896 года и до кончины (в 1942 году, в блокадном Ленинграде) — сотрудник Публичной библиотеки.
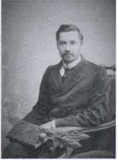
Славяно-русскую палеографию ("науку о внешнем виде и письме древних рукописей, определяющую время и место их возникновения) читал профессор Николай Михайлович Каринский, 1873 года рождения, филолог-славист, палеограф, диалектолог. В начале девятисотых годов работал в Публичной библиотеке; занимался древнерусскими рукописями, принимал участие в подготовке издания "Палеографические снимки с некоторых греческих, латинских и славянских рукописей Публичной библиотеки" (в 1914 году), в котором написал пояснения к славянским рукописям XI—XIV веков.
Помимо Археологического института, преподавал в Ксенинском и Екатерининском институтах, в Женском педагогическом институте, в Санкт-Петербургском университете. После революции переехал в Вятку, где (до 1923 года) читал лекции в институте народного образования и где им был организован исследовательский институт по изучению местного края. Переехав в Москву, вплоть до кончины в 1935 году, Каринский работал учёным специалистом в Историческом музее.

Первобытную археологию вёл профессор Николай Иванович Веселовский (1848 года рождения). Научную карьеру он начал с исследования истории и археологии Средней Азии — вёл раскопки в Самарканде, первым исследовал причерноморские и скифские древности. В мире археологии имя профессора Веселовского связывается, прежде всего, с уникальной Майкопской культурой — археологической культурой Кубани и Причерноморья эпохи бронзы (IV тыс. до н.э.), начало изучению которой он положил, исследовав знаменитый пятнадцатиметровый майкопский курган. Всего же за тридцать лет своей жизни, которые Николай Иванович посвятил работе в Императорской Археологической комиссии, он провел такое же число полевых экспедиций. Сотни курганов и других памятников археологии, истории и культуры изучались под его руководством сначала в Туркестанском крае (близ Самарканда), а затем и на Днепре, в Крыму, на Дону, на Кубани. Умер в ноябре 1918 года.
Юридические древности и источники русской истории читал Сергей Фёдорович Платонов (1860 года рождения), известный русский историк, член-корреспондент Петербургской академии наук (с 1909 года) по историко-филологическому отделению, действительный член Российской академии наук (с апреля 1920 года). Докторскую диссертацию "Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI—XVII вв. (опыт изучения общественного строя и сословных отношений в Смутное время)" защитил в 1899 году в Киевском университете св. Владимира. С 1900 по 1905 год был деканом историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета.
К Октябрьской революции отнёсся отрицательно, посчитав её случайной, однако уже через несколько месяцев был вынужден пойти на сотрудничество с большевиками, помогая налаживать работу по спасению петроградских архивов и библиотек.

В январе 1930 года он был арестован, вместе со своей младшей дочерью Марией, по подозрению "в активной антисоветской деятельности и участии в контрреволюционной организации" (Академическое дело). После полутора лет пребывания в Доме предварительного заключения и в печально знаменитых ленинградских "Крестах"" был выслан, в августе 1931 года, в сопровождении двух своих дочерей, Марии и Нины, в Самару. Здесь историк Платонов, 10 января 1933 года, скончался в больнице от острой сердечной недостаточности и был похоронен на городском кладбище.
Историческую географию и этнографию России вёл Сергей Михайлович Середонин. Специализировался он на русской истории второй половины шестнадцатого века, внутренней политике, исторической географии, издал труд по истории высших государственных учреждений России в девятнадцатом веке, исследовал и публиковал сочинения иностранцев о России.

С 1901 года Середонин — профессор Историко-филологического института Петербурга и профессором на кафедре исторической географии Археологического института. С 1892 года — приват-доцент Петербургского университета, где преподавал до конца дней своих, наступившего в июле 1914 года (в возрасте пятидесяти четырёх лет).
Греческую палеографию преподавал Григорий Филимонович Церетели, 1870 года рождения, коренной петербуржец — филолог-классик, видный папиролог. С 1914 года — профессор по кафедре классической словесности Петербургского университета.

Осенью 1920 год он переехал в Грузию, став на исторической родине заведовать кафедрой классической филологии Тбилисского государственного университета, директорствуя одновременно в Научной библиотеке университета. Был почетным членом Папирологического общества Германии и Берлинского археологического института. Подвергался — без последствий — арестам в 1918, 1931 годах. В кровавом 1937 году вместо него, поначалу, был ошибочно арестован Георгий Васильевич Церетели (1904 года рождения), будущий основатель грузинской школы востоковедения и арабистики.
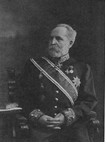
Ошибку органы "исправили" — Григория Филимоновича арестовали и в 1938 году он погиб (то ли от расстрельной пули, то ли скончался в эшелоне, на этапе).
Дипломатику преподавал Николай Петрович Лихачёв — русский (и советский) историк, специалист в области источниковедения, дипломатики и сфрагистики (исторической дисциплины, изучающей печати), по убеждениям — монархист, член Императорского Православного Палестинского Общества. С 1892 года он преподавал в Петербургском археологическом институте, где основал кафедру дипломатики. Собрал уникальные многочисленные коллекции русских, восточных и западноевропейских рукописей, монет, византийских и русских печатей VI—XIV веков, икон, хранившиеся в специально построенном собственном доме, где он жил в 1902 — 1936 годах.
В 1930 году его арестовали по так называемом "Академическому делу". Умер в 1936 году, в Ленинграде.
Часть шестая. Работа Николая Малиновского в Костроме
(Эдуард Асадов)
В Кострому Николай Васильевич Малиновский вернулся — с двумя высшими образованиями, единовременно полученными, — в 1912 году и был назначен учителем (курс психологии, педагогики и дидактики) в местное Епархиальное женское училище и, по совместительству, заведующим образцовой школой при означенном учебном заведении. Одновременно он стал заведовать библиотекой при Костромском Церковном историческом обществе.
Женские епархиальные училища были созданы в середине девятнадцатого века для бесплатного обучения дочерей православных священников и причетников, а также — уже за плату, определяемую местным духовенством — девиц из других общественных сословий. Духовенство ставило главной целью епархиальных училищ воспитать и приготовить из дочерей служителей своего сословия добрых, достойных, достаточно образованных жен священников, способных — как идеальный вариант — "поддерживать своего супруга, предохранять его от упадка духа, от нравственного усыпления и огрубения в материально-житейских помыслах и интересах, от дурного общения, от грубых склонностей и привычек; она должна была уметь утешить и успокоить его в различных неудачах, тяготах, помочь в борьбе с искушениями".
Из предметов обучения обязательными в женских епархиальных училищах были Закон Божий, Священная История, пространный катехизис, объяснение богослужения, всеобщая и русская история Церкви. Кроме того, преподавались русский язык, русская словесность и практическое ознакомление со старославянским языком; арифметика и общие основания геометрии; география всеобщая и русская; гражданская история — всеобщая и русская; необходимые начальные элементы физики; педагогика; чистописание; церковное пение. При училище имелась образцовая женская начальная школа для девочек с особым законоучителем и учительницей, в которой воспитанницы старшего класса практически знакомились с методами преподавания в сельских начальных школах.
Первоначально Костромское женское епархиальное училище располагалось в невидном деревянном доме, а осенью 1906 года переехало в выстроенный по проекту костромского архитектора Ивана Васильевича Брюханова большое трёхэтажное здание из красного кирпича на улице Всесвятской. (В народе эта улица именовалась "Муравьёвкой", по имени губернатора Ивана Иннокентьевича Муравьёва, в середине пятидесятых годов обустроившего неприглядный уличный спуск к Волге.)
Появление нового строения было обязано местному жителю, эконому гимназии Павлу Ивановичу Сергееву, коему повезло выиграть в лотерею изрядную сумму, после чего он пожертвовал свой дом и участок земли местному епархиальному ведомству под новое строительство, за что был удостоен городскими властями звания "почётного жителя Костромы" и назначен попечителем женского училища.
Училище было восьмиклассным, ко времени поступления в него Николая Малиновского здесь обучались более шестисот воспитанниц. В здании на Муравьевке размещались учебные классы, домовая Покровская церковь, общежитие, квартиры начальницы и воспитанниц. При училище, помимо помянутой выше образцовой женской школы, находились больница, баня, сад, спортивная площадка.
Церковно-историческое общество Костромы — среда реализации интеллектуальных, научных устремлений Николая Васильевича Малиновского — было открыто в марте 1911 года благодаря, прежде всего, инициативе и усилиям выдающегося церковного историка, краеведа и публициста, преподавателя — с 1883 года — Костромской духовной семинарии, трудоголика и великого эрудита Ивана Васильевича Баженова (1854 года рождения, выпускника Тверской Духовной семинарии и Казанской Духовной академии).
Под его началом инициативная группа, в состав которой входили инспектор Епархиального училища (и публицист, исследователь костромской старины) Иван Михайлович Студицкий, ректор Костромской духовной семинарии Виктор Георгиевич Чекан, священник Павел Александрович Алмазов, составили проект устава учреждаемого общества, утверждённый в декабре этого же года Священным Синодом.
Общество имело своей целью изучение церковно-религиозной жизни в пределах Костромской епархии, в ее исторической и настоящей действительности, исследование сохранение и собирание памятников местной церковной древности и истории. Для достижения намеченной цели Общество бралось за работу по нахождению, описанию, систематизации архивов церквей, монастырей и других епархиальных учреждений; по изучению местных религиозных обычаев, преданий, церковных обрядовых особенностей; по историческому исследованию церковно-религиозной жизни, в частности, возникновения расколов и сектантства; по распространению в обществе церковных, историко-археологических сведений, по устройство выставок и публичных чтений церковно-исторического и церковно-археологического характера; по публикации материалов и научных исследований церковной истории и археологии Костромского края.
В 1913 году Николай Васильевич Малиновский (вновь по совместительству) перешёл преподавателем немецкого языка и латыни в Костромскую духовную семинарию, продолжая преподавать в Епархиальном женском училище и заведовать Образцовой школой при училище; был он также избран членом Совета этого училища.
К слову, в это время он в течение года наставлял семинарским наукам её слушателя, будущего маршала Александра Михайловича Василевского (также уроженца Костромской губернии, сына православного священника). Об этом отрезке своей жизни маршал пишет в воспоминаниях, в частности, о семинарской "бузе" 1909 года.
"Наша семинария размещалась в нескольких корпусах на Верхне-Набережной улице. Весной и осенью мы любили с противоположного берега реки любоваться городом. За местом впадения в Волгу реки Костромы на лугу стоит Ипатьевский монастырь. Его история, стены и башни, расписанные чудесными фресками, заслуженно вызывали интерес у наших историков, у всех любителей старины и древнерусской истории. Справа на холме за Татарской слободой красовалась сосновая роща…
Упомяну также и о таком хорошо запомнившемся мне событии, как забастовка семинаристов. Это произошло в 1909 году, когда учащиеся нашей семинарии присоединились к всероссийской стачке семинаристов, вспыхнувшей в ответ на решение Министерства народного просвещения запретить доступ в университеты и институты лицам, окончившим четыре общеобразовательных класса семинарии. Тогда, насколько я помню, во всех семинариях России почти одновременно были прекращены занятия. К нам в семинарию приехал губернатор. Вместе с ректором он уговаривал учащихся прекратить забастовку, забрать петицию, врученную забастовочной комиссией администрации, и возобновить занятия. Но семинаристы освистали их, и они вынуждены были покинуть актовый зал. Правда, вслед за тем полиция выдворила всех нас из Костромы в течение 24 часов. Семинарию закрыли, и мы вернулись в неё лишь через несколько месяцев, после того, как наши требования частично были удовлетворены".
В пору описанной будущим маршалом семинарской смуты выпускник Николай Малиновский ещё учился на первом курсе Духовной академии в Санкт-Петербурге. В 1913 году семинарист Василевский и его учитель Малиновский, как и все костромичи, волей-неволей участвовали в знаменательном для России событии — юбилейных торжествах по случаю 300-летия дома Романовых.
Кострома, считавшаяся колыбелью сменившей Рюриковичей династии, готовилась праздновать эту дату с особенной торжественность. Подготовка к празднованию ознаменовалась существенными градостроительными преобразованиями — постройкой электростанции, Романовского музея и Романовской больницы, открытием второй очереди водопровода, благоустройством городского центра, закладкой фундамента грандиозного памятника 300-летия династии Романовых.
Из всех представленных на конкурс проектов памятника комиссия выбрала вариант скульптора Амона Ивановича Адамсона (эстонца), предложившего его в виде сооружения высотой в тридцать шесть метром с двадцатью шестью скульптурами исторических личностей и с барельефами по кругу постамента, иллюстрирующими важнейшие события русской истории. (Одна из скульптурных групп — воин-дружинник, символизирующий Россию, и лежащий у его ног жертвенный Иван Сусанин).
Были сооружены и временные (и очень затратные для городского бюджета) постройки, в том числе красивый павильон на обрыве Волги, несколько пристаней-дебаркадеров и — для выставки Костромского губернского земства — три десятка павильонов в древнерусском стиле из гладкоструганных брёвен со сложной резной отделкой. На выставочной площади соорудили бетонную скульптуру русского богатыря в полном вооружении, сидящего на могучем боевом коне и старинную деревянную звонницу с набором всей гаммы блестящих колоколов. Был представлен спиленный ствол сосны, имевшей возраст более трёхсот лет; наслоения на срубе были раскрашены по годам царствования представителей Дома Романовых — время Михаила Фёдоровича выделили золотой полосой в центре.
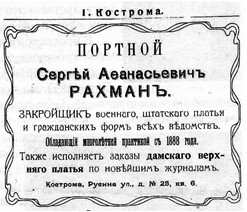
В одном из павильонов выставки экспонировались материалы, посвященные истории Костромской семинарии (подготовленные, в том числе, при участии Николая Малиновского). Центральное место среди них занимала большая диаграмма с изображением произрастающего из здания семинарии мощного ветвистого дерева, с именами пятидесяти трёх наиболее прославленных выпускников на её ветвях. И хотя после этого семинарии было суждено прожить еще пять лет, но, по сути, выставка 1913 года уже подводила итог всей её (к тому времени уже 165-летней) истории.
К юбилею возвели памятный "Романовский дом", и архитектурный стиль возведённого сооружения подпал уничижительной критике со стороны выдающегося знатока старорусской архитектуры Георгия Крескентьевича Лукомского: "Но недавно рядом (с зданием Дворянского собрания) воздвигли ужасающее здание будущего дома Романовых. Этот ложнорусский стиль убьёт теперь всё очарование, что здесь давал шелест деревьев, ветви которых так низко и ласково свешиваются над львами и бросают прохладные тени на белые стены ограды". Точно так же, в ложнорусском стиле, было построено здание больницы на средства Фёдоровской общины Красного Креста.
К юбилейным торжествам всех учащихся мальчиков и юношей обязали обзавестись белыми тужурками и белыми чехлами для фуражек, а девочек и девушек — белыми фартуками, нарукавниками, пелеринами на форменные платья. Учителя, чиновники и все служащие обязывались иметь также парадную форму, при всех положенных чину регалиях. По этой причине небывало большая работа выпала на портных и портних, модисток, шапочников, сапожников и прочих ремесленников, их мастерские были завалены работой ещё за много месяцев до торжеств. Бойко торговали ходовыми товарами мануфактурные торговцы и галантерейщики.
Не покладая рук трудились в дни подготовки к приезду высокородных гостей судебные органы, жандармские отделения и полиция, очищавшие Кострому от смутьянов и политически неблагонадёжных личностей, коих выслали за губернские границы; подозрительных субъектов упрятали за решётку — в тюрьму или в камеру предварительного заключения. Люди охранки и полиция особенно тщательно следила за всеми приезжающими в город гражданами, гласно и негласно проверяя каждого из них; выборочно проверялась почтовая корреспонденции. На ноги был поставлен весь актив тайной полиции, в помощь которому прибыли лейб-гренадёрский Эриванский полк из Петербурга, отборная сотня Кизляро-Гребенского казачьего полка и сотня 30-го Донского казачьего полка.
В канун празднования на улицах Костромы появились франтоватые офицеры и нижние чины столичной полиции и жандармерии, а сколько их было в цивильном — об этом горожане могли только догадываться.
Загодя, ещё в 1912 году, в отставку был отправлен костромской губернатор Пётр Петрович Шиловский, считавшийся столичными властями не в меру мягким и либеральным (его инженерно-изобретательские увлечения гироскопами, монорельсовыми железными дорогами считались несерьёзными для государственного человека); передвинули его, также губернатором и только на год, в Олонецкую губернию.
В преддверии юбилейного года начальствовать в Костромской губернии был назначен твёрдый монархист вылощенный царедворец Стремоухов (как и предшественник — Пётр Петрович), по воспоминаниям современников представлявший собою "симпатичного, добродушного, "барственного" губернатора, страстно любившего охоту".
За пару-тройку дней до юбилея задали городские власти много работ домовладельцам, которых обязали восстановить фонари над воротами домов, покрасить фасады, заборы, фонарные столбы и уличные тумбы, подровнять тротуары, углубить водосточные канавы.
К празднику отчеканили юбилейные бронзовые медали с погрудным изображением царя Михаила Фёдоровича и императора Николая II, а также серебряные рубли, повторявшие внешне медали, с указанием юбилейной даты. Заблаговременно и в большом количестве были подготовлены именные ценные подарки для "достойных" — золотые и серебряные часы, портсигары, жетоны и прочая; были отпечатаны в большом количестве роскошные адреса, пригласительные билеты, специальные пропуска, программы празднеств. В последние предпраздничные дни городские гимназисты по несколько часов в день занимались шагистикой — маршировали по городским улицам с бутафорскими ружьями; гимназистки вышагивали с букетами цветов.
Большие реставрационные работы был проведены в Ипатьевском монастыре, где прятался в тяжкие дни польской интервенции будущий первый Романов. Предполагали городские управители устроить в монастыре царскую резиденцию, но просчитались.
Празднование, начавшееся в Петербурге в феврале 1913 года, продолжилось в середине мая переездом царского поезда с многочисленной придворной свитой в Нижний Новгород, откуда "обожаемый монарх" с семейством и сопровождавшими лицами поднялся вверх по Волге — с двухдневными остановками в Костроме, Ярославле и Угличе (то есть повторяя — обратным ходом — маршрут, по которому в 1613 году двигалось посольство из Москвы в Кострому для приглашения на царство боярина Михаила Фёдоровича Романова).
В преддверии празднеств в город съехались высшее офицерство и гражданские лица из царского окружения, министры и великие князья, а 19 мая в празднично украшенную Кострому кильватерной колонной вошла флотилия с царствующей семьёй и свитой — под удары большого соборного колокола и перезвон всех сорока церквей, под артиллерийский салют с заволжской стороны, под громогласное всенародное "ура".
Пароходы "Межень", "Стрежень", "Свияга", "Царевич Алексей" и "Царь Михаил Фёдорович", эскортируемые паровыми катерами речной инспекции, медленно проплыли мимо города к Ипатьевскому монастырю. Там высший генералитет, царская свита, представители костромского дворянства, сановники, "отцы города", после церемониала встречи проследовали в монастырский храм, где был отслужен торжественный молебен. Далее состоялся парад войск Костромского гарнизона совместно с прибывшими ереванцами, кизляро-гребенцами и донцами.
Осмотрели царственные гости и их окружение древности Ипатьевского монастыря, некогда укрывшего основателя их монархического рода, побывали в семейных помещениях предка-первопроходца, в так называемых "романовских палатах", занятых в то время библиотекой Церковно-исторического общества, которой заведовал Николай Васильевич Малиновский, думается, удостоившийся внимания (если не рукопожатия) царя Николая. Оглядев далее усыпальницу Годуновых, дворец Михаила Фёдоровича, гости водным путём отправилась в Кострому, где были встречены (на выстланной красным сукном пристани) городским начальством, после чего расселись по лакированным экипажам, управляемыми бородатыми кучерами в блестящих бутафорских костюмах, и церемониальной кавалькадой, с губернатором Стремоуховым на вороном рысаке во главе, отправились в центр города.
За губернатором следовал экипаж с царём (невысоким, худощавым, рыжебородым полковником, с внешне бесстрастным, холёным, чуть отёчным лицом), с его осанистой, неизменно надменной супругой и вдовствующей императрицей Марией Фёдоровной, далее следовали экипажи с царскими дочерьми и наследником Алексеем и при нём неизменно находившимся матросом Деревянко. Замыкали процессию свита и генералитет. Утверждают свидетели событий того дня, что был в числе свиты необычный гость, возрастом за сорок, с длинной чёрной бородой, остриженный "под кружок" (понимай — Гриша Распутин).
В первый день гости посетили губернаторский дом, где состоялся приём царём делегаций от всех учреждений и предприятий, религиозных общин и сект города, в Дворянском собрании монарх принял делегации местных дворян во главе с уездным предводителем. В завершение первого дня пребывания гости осмотрели недавно открытый музей ("Дом Романовых"), после чего отправились на покой в свою плавучую резиденцию — на один из пароходов флотилии, взятый под неусыпный контроль речной полицией.
Торжественные завтраки и обеды следующего дня проходили в губернаторском доме, в Дворянском собрании, а также в Богоявленском и Ипатьевском монастырях. В этот день, после пышного утреннего богослужения в кафедральном соборе, процессия, с высшим духовенством во главе, направилась к специальному шатру, оборудованному в конце соборной площади для проведения церемонии закладки памятника 300-летию дома Романовых, фундамент которого уже был готов. После специального молебна в этом шатре, император, взяв два юбилейных серебряных рубля, заложил их в лунку фундамента, то же сделали все члены царской фамилии, после чего её глава заложил первый кирпич, того не предполагая, кому — в историческом итоге — будет скоро перестроен неоконченный памятник. Там же, на площади, состоялся парад всех войсковых соединений, после которого состоялся обед у губернатора с последующим приёмом (при тёплой и ясной погоде) в губернаторском саду волостных старост и старшин, искренне и рьяно преданных властвующему монарху. Представители народа, все как на подбор, были одеты в новые суконные синие кафтаны, в синие картузы и смазанные дёгтем кожаные сапоги.
На последовавшем торжественном обеде старшины и старосты получили юбилейные кружки и гостинцы в шёлковых платках с портретами Николая II и основателя династии — самодержца Михаила Фёдоровича. Представлялась царю и преподносила обязательный хлеб-соль и еврейская депутация делегация во главе с самыми богатыми и почётными купцами Гутманом, Домбеком и другими.
После приёма и торжественного обеда Николай II осмотрел экспозицию сельскохозяйственной выставки. Царица в свою очередь, вместе со свекровью и хороводом фрейлин (со скандально известной Анной Александровной Вырубовой во главе) посетила Богоявленский женский монастырь, приняв там участие в торжественной трапезе в покоях игуменьи Анны (в миру — княжны Левашовой). Народное гулянье в этот день испортил проливной послеобеденный дождь. С наступлением темноты город был иллюминирован плошками с горящим маслом, расставленными по тротуарным тумбам, украшен цветными фонариками, возбуждён фейерверками.
Вечером костромичи проводили гостей. Под звон колоколов, игрой духовых оркестров, под салют артиллерийских орудий и крики "Ура!" царская флотилия, сопровождаемая катерами речной инспекции, покинула причальную стоянку и, взяв курс вверх по Волге, направилась в Ярославль.
Все активные участники встречи получили награды согласно заслугам: одни — должностные повышения, другие — ордена, памятные подарки в виде именных золотых и серебряных часов, портсигаров и жетонов, а также высочайшие благодарности в указах. Государственным служащим, офицерству, полицейским и жандармам вручили, кроме прочих наград и подарков, ещё и юбилейные медали. Нижних чинов войсковых соединений одарили по одному юбилейному рублю.
Протоиерей отец Алексей Андроников получил орден святой Анны I степени и надел через плечо орденскую ленту. Полицмейстер Волонцевич и его заместитель Красовский были "пожалованы" именными золотыми часами с императорским гербом, а "шефиня" Николая Малиновского, начальница епархиального женского училища Любовь Ивановна Поспелова, как свидетельствует очевидец, "… в течение нескольких дней никому не давала руки, говоря: "Её жал государь император". Уж очень она кичилась золотым жетоном и юбилейной медалью…"
Печальной, как и всей царствующей династии, оказалась судьба заложенного её последним представителем монумента. К 1916 году был возведен его постамент, отлиты и доставлены в Кострому двадцать бронзовых фигур, из которых установили только две, остальные остались в ящиках. После Февральской революции работы окончательно прекратились. Адамсон уехал из России. Победивший пролетариат использовал постамент для установки на нём (в 1922 году) скульптуры вождя, изготовленной из бетона, заменённой (в 1982 году) на стильную бронзовую фигуру Владимира Ильича.
В описанный юбилейный год результативное трудолюбие продемонстрировало и Костромское церковно-историческое общество. Его председатель, неутомимый Николай Васильевич Баженов, получив на то благословение архиепископа Костромского и Галичского Тихона, блестяще выступил в Дворянском собрании с докладом на тему "Призвание боярина Михаила Федоровича Романова на Московский и всея Руси царский престол".
Юбилей династии Романовых стал последним праздником, отмеченным столь широко в позднеимперской России. Идеализация минувших традиций в совокупности с сакрализацией власти определили содержание торжества 1913 года убедили императора, что в национальном мире у него была особая роль последователя царя Михаила, и уверили его в выпавшей на его долю миссии — восстановления личного самодержавия. Подобная убеждённость, как полагали современники, отражала особенности политического мировоззрения Николая II, считавшего себя "главой своего народа или как бы крупным помещиком", преисполненного чувством долга перед своими подданными — "он был проникнут чувством ответственности и не хотел, чтобы эта ответственность перекладывалась на другие плечи".
Мучила последнего российского императора нравственная раздвоенность ("дихотомия") — он готов был уступить часть своей властной прерогативы, но не мог допустить посторонних вторжений в сферу его личных отношений с Богом (в итоге, отказавшись от "неограниченности", однозначно высказался за сохранения второго предиката царского титула — "самодержец").
Помянутая идеализация минувших традиций в совокупности с сакрализацией власти, определившие содержание празднование 300-летия дома Романовых могут показаться пиром в преддверии чумы, очень скоро охватившей Российскую империю. Тем более, что её симптомы проявились в несчастиях русско-японской войны, в расстреле перед Зимним дворцом жителей столицы, просивших милости у монарха, в расстреле трудящихся Ленских приисков в 1911 году, в надвигающихся со стороны Балкан первых громовых проявлений внешней угрозы в только закончившихся войнах между прогерманской Болгарией и пророссийской Сербией…
Объективную — не парадную — оценку прошедшим празднествам дал позже в своих мемуарах историк (и православный священник) Дмитрий Гаврилович Булгаковский: "Воодушевления у народа не было. А уж про интеллигентный класс и говорить нечего. Церковь тоже лишь официально принимала участие в некоторых торжествах. По-видимому, торжество предназначалось к поднятию монархических чувств против будто бы убитой революции. Но это не удалось. И вся эта затея тоже была искусственной… Ясно, что идея 1913 года в подпочве своей имела робкое сознание озлобления царской идеологии не только среди интеллигенции, но и в массах. И понятно, что торжества были малоторжественны: отбывалась временная повинность".
Часть седьмая. Между Мировой войной и революцией
В наступившем 1914 году Николай Васильевич Малиновский ушёл из Епархиального училища, продолжая преподавать в Костромской семинарии и заведовать библиотекой церковно-исторического общества. Возможно, причиной отставки по собственному желанию, возможно (но не обязательно), стало его ухаживание за очаровательной коллегой по училищу, воспитательницей Любовью Николаевной Сокольской. Была она те не только лицом мила, но и, безусловно, украшала его умной, чуть загадочной улыбкой, что подтверждает позже появившаяся свадебная фотография четы Малиновских. О её уме говорит сам факт привлечения выпускницы Ярославского училища к преподаванию и наставлению нежного и чувствительного девичьего племени в аналогичном училище Костромы.
"Из тонких линий идеала,
Из детских очерков чела
Ты ничего не потеряла,
Но всё ты вдруг приобрела".
(Афанасий Фет)
В этом году, продолжая торжества года ушедшего, вышел в свет подготовленный членами Общества юбилейный сборник, посвященный 300-летию Дома Романовых. Можно не сомневаться, что прямое участие в его подготовке принимал участие молодой, высокого интеллекта сотрудник Церковно-исторического общества, распорядитель его библиотеки Николай Васильевич Малиновский.
В городском кинотеатре демонстрировалась кинолента "Трёхсотлетие царствования дома Романовых". В начале июля 1914 года — по случаю двадцатипятилетия окончания Костромской семинарии — в свою Alma mater, съехались её выпускники 1889 года, те же, что не смогли приехать, прислали письма и поздравительные телеграммы, в числе последних были Николай Кротков, в то время уже епископ Чигиринский, викарий Киевской епархии Никодим, будущий архиепископ Костромской и Галичский и первый русский святой, вышедший из стен костромской семинарии, новомученик и исповедник Веры Христовой.
Начавшаяся летом 1914 года столь роковая в истории России война, позже названная Мировой (на начальном её этапе она именовалась Отечественной) сразу же безвозвратно переломила прежний ход жизни семинарии. С открытием боевых действий часть помещений семинарии была отведена под лазарет для раненых воинов, ушли на фронт около сорока семинаристов старших классов, в том числе будущий маршал Василевский:
"Заметный след оставили в моём политическом воспитании события, начавшиеся в Костроме весною 1914 года. Рабочие прядильной фабрики "Большой Кинешемской мануфактуры" потребовали тогда повысить заработную плату, отменить штрафы, уволить некоторых мастеров, ввести 8-часовой рабочий день, прекратить преследования за читку прогрессивных газет. Вслед за ними поднялись рабочие других фабрик. В июне бастовали рабочие всех фабрик Вичуги, Родников и Середы. Немалую роль в организации рабочих сыграл тогда депутат IV Государственной Думы от Костромской губернии большевик Н.Р. Шагов, уроженец деревни Клинцово. Он выступал на фабриках, призывал бастовавших действовать решительнее и смелее. 26 июня забастовка перекинулась в Кострому. Картина закрытых фабричных ворот, возбуждённых народных толп навсегда осталась в моей памяти. Забастовка набрала ещё больший размах с началом первой мировой войны. В результате массовой забастовки рабочие победили — фабриканты вынуждены были удовлетворить их требования.
В июле — августе 1914 года перед последним классом семинарии я проводил каникулы, как и прежде, у себя дома, работая вместе с другими членами нашей семьи в поле и огороде. Там-то 20 июля (по старому календарю) я узнал о начавшейся накануне первой мировой войне…
Война опрокинула все мои прежние планы и направила мою жизнь совсем не по тому пути, который намечался ранее. Я мечтал, окончив семинарию, поработать года три учителем в какой-нибудь сельской школе и, скопив небольшую сумму денег, поступить либо в агрономическое учебное заведение, либо в московский межевой институт. Но теперь, после объявления войны, меня обуревали патриотические чувства. Лозунги о защите отечества захватили меня. Поэтому я, неожиданно для себя и родных, стал военным. Вернувшись в Кострому, мы с несколькими одноклассниками попросили разрешения держать выпускные экзамены экстерном, чтобы затем отправиться в армию.
Наша просьбы была удовлетворена, и в январе 1915 года нас направили в распоряжение костромского воинского начальника, а в феврале мы уже были в Москве, в Алексеевском военном училище".
Вспыхнувшая, почти весь земной шар охватившая война, по сути своей стала многосторонней схваткой за передел мира между двумя мощными коалициями, в одной из которых участвовала и Россия. Формально для России Первая мировая война 1914—1918 годов была оборонительной, поскольку Австро-Венгрия (и Германия) первыми объявила ей войну. Поводом для этого послужила начатая в России мобилизация в ответ на агрессивные действия Австро-Венгрии против российского союзника — Сербии.
По образу ведения боевых действий это была "смешанная" наступательно-оборонительная война, в которой мобильные боевые действия сменялись долгими периодами позиционной войны. Война велась Россией сначала на чужой, а затем преимущественно на своей территории. Основными противниками России были Германия, Австро-Венгрия и Турция.
В этой войне Россия потерпела поражение не только из-за неудач на полях сражений, но в значительной степени из-за революционных потрясений в тылу, распада общества и в результате — разложения армии. Заключив сепаратный мир с Германией, Россия оказалась проигравшей стороной, несмотря на то, что коалиция, в которой она участвовала, вышла из войны победителем. Но для России война не окончилась подписанием сепаратного мира — война внешняя переросла в войну внутреннюю, гражданскую, сопровождаемую интервенцией не только со стороны бывших противников в мировой войне, но и недавних союзников по Антанте.
В предреволюционный 1916 год составился семейный союз Николая Васильевича Малиновского и Любови Николаевны Сокольской. Отец новобрачной, Николай Иванович Сокольский, имел приход (храм Флора и Лавра) в селе Фролы Нерехтского уезда Костромской губернии и одновременно обучал Священному Писанию детей местных и окрестных поселян в земском училище; здесь же учительствовала и его дочь Варвара.

Всего в семье священника Сокольского было восемь детей, в числе которых преобладали дочери. (Вероятно, близкие предки Любови Николаевны были выходцами из Смоленской губернии, если принять на веру мнение, что — после разорения края в войне 1812 года — семь семейств из него переехали в Костромскую губернию и основали село Фролы.)
По причине своей многочисленности была семья Сокольских не сильного достатка, не могущей дать каждому из детей требуемый для самостоятельной жизни капитал. Это немаловажное обстоятельство вызвало, как свидетельствует хроника Малиновских, недовольство родителей Николая Васильевича его женитьбой на бесприданнице. Из-за малоденежья, ставшую Малиновской младшую дочь, её отец Николай Иванович в своё время отправил на учёбу в Ярославское епархиальное женское училище, начавшее действовать в 1880 году и предназначавшееся — в первую очередь — для бесплатного обучения, по гимназическому курсу, дочерей священников Ярославской, Костромской и Вологодской епархий и платного обучения девочек из других сословий, дававшее выпускницам учительское образование.
К началу 1917 года в Костромской губернии, как и во всей стране, сложилось тяжёлое положение. Патриотический подъём, вспыхнувший с началом войны и было устранивший вражду между властью и оппозицией, давно угас. Военные неудачи и оккупация противником значительных территорий на западе, огромные военные потери, с каждым днём войны возраставшие, разлад в экономической жизни страны привели к росту усталости и недовольства среди населения, видевшим главным виновником сложившейся ситуации правительство и — более — существующий политический строй. Требования реформ и кардинального обновления государственной системы раздавались не только с трибун Государственной Думы, но и в органах земского и городского самоуправления, в возникших с началом войны общественных организациях, занимавшихся военно-санитарной и благотворительной деятельностью, в кооперативном движении.
В истощённой войной стране особо остро стоял продовольственный вопрос. В Костроме — 11 января 1917 года — экстренное земское собрание, ознакомившись с состоянием продовольственного дела в губернии и во всей стране, пришло к заключению, что костромской уезд, как и вся губерния, находится на грани голода и причина тому — недееспособность правительства. Полагали костромские земцы, что только народное представительство в сотрудничестве с общеземским и губернским союзом сможет найти выход из кризиса.
В сложившейся обстановке, при поступлении в Кострому первых сведений о революционных событиях в столице городская дума обратилась к согражданам с воззванием, содержавшим призыв оказать всеми силами поддержку временному комитету Государственной Думы, сформированному 27 февраля в Петрограде. При известии о формировании — 2 марта — Временного правительства в городской управе состоялось совещание представителей города, земства, утвердившее местный комитет для охраны порядка и спокойствия в Костроме и губернии, выразившее поддержку Временному правительству верноподданнической телеграммой, в его адрес направленной.
Иван Владимирович Хозиков, последний костромской губернатор и его администрация были бессильны что-либо предпринять. В первые дни Февральской революции призвал он население "не нарушать обычного течения жизни, спокойно выжидать событий и помнить, что в настоящее тревожное время всякое нарушение порядка в тылу только на руку врагам". В переломный день 2 марта он дал распоряжение уездным исправникам немедленно прислать в Кострому всех стражников, имеющихся в их распоряжении, но было поздно — войска костромского гарнизона перешли на сторону новой власти.
На следующий день камергер двора Хозиков — решением только созданного губернского объединённого комитета общественной безопасности — был (как и высшие чины полиции и жандармерии) арестован, помещён под домашний арест в губернаторском доме. Спустя некоторое время он покинул Кострому и указом Временного правительства был отрешён от службы. По некоторым данным — эмигрировал, работал таксистом.
Через несколько дней на имя председателя губернской земской управы Бориса Николаевича Зюзина поступила телеграмма от возглавлявшего Временное правительство Георгия Евгеньевича Львова с предписанием взять на себя обязанности по управлению губернией в качестве комиссара Временного правительства. В ответной телеграмме Зюзин сообщил, что вся власть в губернии принадлежит объединённому комитету общественной безопасности и вводить должность комиссара Временного правительства и передавать ему управленческие полномочия недопустимо.
Выборы в костромскую думу состоялись в конце июня. Убедительную победу в них одержали социал-демократы, получившие в новой думе 46 мест (эсеры — 17 мест, кадеты — 11 мест). Правда, на первых порах не было единодушия в рядах победителей в вопросе отношения к войне и Временному правительству. В конце июля в Костроме, на проводимом социал-демократами митинге было принято постановление о необходимости продолжать оборонительную войну. Собравшиеся выразили полное доверие Временному правительству (при условии — пока в его составе находятся представители социал-демократической партии).
Однако ситуация с продовольствием в губернии продолжала оставаться чрезвычайно сложной, и в начале сентября на съезде городских голов и городских самоуправлений Костромской губернии было признано, что губерния находится на пороге голода и запасов на зиму нет. В такой обстановке Кострома встретила известия об октябрьских событиях в Петрограде.
Первая по счёту величайшая геополитическая катастрофа двадцатого века, разрушившая государство Российское, длившаяся с конца зимы по позднюю осень 1917 года, имеет — на сегодняшний день — множество объяснений, разъяснений, аналитических анализов и прочая и прочая. Но из всего обилия литературы подобного толка очень малая толика её описывает и оценивает непреложный исторический факт, что высшие иерархи Русской православной церкви отнюдь не скорбели по случаю падения монархического строя, приветствовали его свергший — в результате дворцового переворота — строй буржуазных либералов в образе Временного правительства.
И такому поведению отцов церкви в первых числах марта 1917 года есть, по моему разумению, своё толкование. Оно — в прилагающемся абрисе истории синодального периода русского православия, непосредственными участниками которого были, как показано выше, предки Бориса Николаевича Малиновского.
Абрис истории синодального периода русского православия
После известных событий конца февраля 1917 год, в первых числах марта Синодом были получены многочисленные телеграммы от российских архиереев с запросом о необходимой форме моления за власть. В ответ первенствующий член Святейшего Синода митрополит Киевский Владимир 6 марта разослал от своего имени по всем епархиям Русской православной церкви телеграммы с распоряжением, что "моления следует возносить за Богохранимую Державу Российскую и Благоверное Временное правительство ея". Иными словами, уже 6 марта российский епископат перестал на богослужениях поминать царскую власть.
Далее, 9 марта Святейший Правительствующий Синод обратился с посланием "К верным чадам Православной Российской Церкви по поводу переживаемых ныне событий", начинавшемуся словам: "Свершилась воля Божия. Россия вступила на путь новой государственной жизни. Да благословит Господь нашу великую Родину счастьем и славой на ея новом пути".
А начиналось всё с реформ царя Петра, по которым православная церковь, лишённая патриаршего главенства в ней, была включена в государственную систему как её исполнительное звено, возглавляемое, контролируемое и направляемое Святейшим Правительствующим Синодом, определявшимся как "соборное, обладающее в русской православной церкви всеми видами высшей власти и состоящее в сношениях с заграничными православными церквами правительство, через которое действует в церковном управлении верховная самодержавная власть, его учредившая". Члены Святейшего Синода назначались императором, равно как и представлявший его интересы в этот высшем державно-церковном органе обер-прокурор (по выражению Петра I, "ока государева и стряпчего о делах государственных в Синоде").
Для церкви желанная, из Византии пришедшая идеальная схема православного государства, симфонией именуемая (ударение на предпоследнем слоге), которая обеспечивает двуединство светской и духовной властей, действующих автономно в части дел человеческих и божественных, осталась только мечтой, волей первого русского императора похороненной. Факт этот поэтически оценила Анна Андреевна Ахматова:
"Когда в тоске самоубийства
Народ гостей немецких ждал,
И дух суровый византийства
От Русской церкви отлетал,
Когда приневская столица,
Забыв величие своё,
Как опьянённая блудница,
Не знала, кто берёт её…"
Петр I рассматривал духовенство, по меткому замечанию Юрия Фёдоровича Самарина, "как особый класс государственных чиновников, которым государство поручило нравственное воспитание народа. Но так как духовное сословие имело назначением трудиться для государства, и более никакого, то, следовательно, его устройство, управление, деятельность должны были условливаться государством как частный орган целым".
В таком случае труд на государство должен был оцениваться казённым жалованием, и вопрос этот ни шатко, ни валко решался весь синодальный период истории православной церкви — известно, что на начало двадцатого столетия содержание (около 440 рублей в год) получало духовенство трёх десятков тысяч российских приходов (в подавляющем числе городских), остальным — а это около одиннадцати тысяч приходов — жалование не полагалось.
Сельское духовенство с началом государевой службы оскудевало более века, и только в 1828 году император Николай I высказал пожелание, чтобы "чин духовный имел все средства к прохождению служения своего, не препираясь заботами о жизни". Во исполнение монаршьего намёка был образован Комитет по приисканию средств для обеспечения сельского духовенства. Отсутствие денежного вспомоществования власти пытались компенсировать наделением сельских пастырей землёй, которую они (и члены их семей) обрабатывали от весны до поздней осени, ничем не отличаясь в этом от духовно подначальных им крестьян.
Дабы повысить интерес духовенства к серьёзному занятию хлебопашеством, с 1840 года в семинариях были введены новые учебные предметы — сельское хозяйство и естествоведение. Хотя митрополит Филарет ещё в 1826 году в своей записке, поданной лично императору, сомневался в полезности такого начинания, полагая, что из-за этого могут пострадать пастырские обязанности духовенства: "Если по обстоятельствам места возложит он (священник) руки на рало, то редко будет брать в руки книгу".
Тем не менее практика жизнеобеспечения сельского духовенства земельными наделами, кажется, длилась до последнего дня Синодального периода церковной истории. Так было и в жизни семьи деда Бориса Николаевича Малиновского, об этом сын православного священника, маршал Александр Михайлович Василевский пишет в своей книге "Дело всей жизни": "Я родился в селе Гольчиха 30 (17) сентября 1895 года. Через два года отца перевели священником в село Покровское. Скудного отцовского жалованья не хватало даже на самые насущные нужды многодетной семьи. Все мы от мала до велика трудились в огороде и в поле. Зимою отец подрабатывал, столярничал, изготовляя по заказам земства школьные парты, столы, оконные рамы, двери и ульи для пасеки".
Доход приходского священника в первую очередь зависел от платы за требы, на которые твердых расценок фактически не было. Большое значение имели также субъективные моменты, такие, как популярность священника или его склонность и умение "выбивать" плату. Но главным препятствием было привычное для русского человека отношение к священнику и его деятельности.
Духовенство жаловалось на унизительную материальную зависимость от прихожан, на то, что зачастую приходится выпрашивать деньги у них, что наносило психологическую травму, особенно молодым, священникам и убивало у них желание духовно окармливать народ. Прихожане, в свою очередь, были недовольны завышенными, на их взгляд, денежными и материальными запросами служителей церкви.
Простой человек очень редко видел в своем священнике духовного пастыря, руководителя своей религиозной жизни. Для него, привыкшего высоко ценить таинства и обрядовую сторону церковной жизни, священник был необходимым посредником в общении с высшим миром, совершителем треб, без которых было невозможно "устроение души", и потому за своё "посредничество" имевший право на вознаграждение. Но при этом верующий считал себя вправе определять его величину, в зависимости от собственной оценки значимости для него той или иной требы. Такая вольность в "ценообразовании" составляла органическую часть религиозного сознания простолюдина. Только он один, по его разумению, мог знать, сколько значила соответствующая служба для его души. Это глубинное, имевшее многовековые корни убеждение русского человека продолжало жить и в девятнадцатом, и в двадцатом веках. (Известно, что постепенно слово "поп" стало в народе нарицательным и потому, по велению верховной церковной власти, было запрещено к употреблению; вместо него вошло в обиход слово "священник".)
Привязка сельского духовенства к земле невыгодно сказалось на нём в части зависимости от помещиков и от недружественного отношения к нему со стороны крепостных крестьян. Первоначальные нормы Уложения 1649 года и последующие законы прикрепляли крестьянин только к земле, которую он обрабатывал и на которой жил, но не к личности землевладельца. Лишь Петр I, который посредством иерархической системы прав и обязанностей привязал сословия к государству, изменил эти юридические отношения, предоставив землевладельцу целый ряд прав в отношении крестьянина и сделал его посредником между крестьянством и государством.
Затем эта основа обросла плотью обычного права и в таком виде была окончательно кодифицирована при Николае I, в десятом томе Свода законов. Отныне помещик становился не только фактически, но и юридически собственником населявших его землю крестьян. Сельское же духовенство в течение полутора столетий являлось не просто свидетелем этого процесса, оно было им непосредственно затронуто на всех стадия его модификации и в итоге оказалось в зависимости от дворянина-помещика, которая, хотя и не фиксировалась буквою закона, но практически была весьма заметна и постоянно усиливалась.
У помещика было достаточно власти, чтобы по своему произволу определять отношения между духовенством и крестьянами. Экономически священник был у него в руках и благосостояние его прямо зависело от того, какую землю решит выделить ему помещик. В результате, сельское духовенство оказалось в подчинении у трех властей: государства, епархиального архиерея и помещика, но власть последнего была для него самой близкой и ощутимой. Эта власть проявлялась и после отмены крепостного права, весьма невыгодно отражаясь на авторитете духовенства в глазах крестьян. Искать защиты от злоупотреблений помещика у духовного начальства или у государства было для священнослужителя делом безнадежным.
Со временем православное духовенство оформилось в замкнутую корпорацию, касту с собственным бытом, традициями и обычаями, с собственной системой воспитания и образования. Должно отметить, что духовенство, став — силой петровских реформ начала восемнадцатого века — вторым (после дворянства) привилегированным сословием в державной табели о рангах, имело весьма существенные ограничения членства в нём. Принадлежность к духовному сословию усваивалась при рождении и при вступлении в ряды "белого духовенств" (в отличие от монашествующих и высших церковных иерархов, составлявших слой "чёрного духовенства").
Дети священнослужителей и церковнослужителей наследовали их сословную принадлежность, но остающиеся при отцах до пятнадцатилетнего возраста без соответствующего обучения или исключённые из духовных училищ отроки (за непонятливость и леность) вычёркивались из духовного звания и должны были приписаться к какой-либо общине податного сословия — мещанской или крестьянской — или записаться в купцы; избирать себе род деятельности должны были и дети духовных лиц, добровольно покидавших своё сословие.
До шестидесятых годов девятнадцатого столетия для "излишних" детей духовенства периодически устраивались так называемые "разборы", при которых ребята, никуда не записанные и никуда не определённые, отдавались в солдаты. Принадлежность молодого человека к духовному сословию сохранялась только при поступлении его на священнослужительскую (священника или диакона) или церковнослужительскую должность, к примеру, псаломщика.
Выпускники духовных семинарий и духовных академий могли пожелать избрать для себя светскую карьеру, для чего они должны были уволиться из духовного ведомства. Рождённые в духовном звании при поступлении на гражданскую службу пользовались правами, одинаковыми с правами детей личных дворян (которые не передавали свою принадлежность к дворянству по наследству детям, но имели право поступления на гражданскую службу, могли получать почётное гражданство). При поступлении на военную службу дети служителей культа, окончившие среднее отделение духовной семинарии и не уволенные из семинарии за пороки, пользовались правами вольноопределяющихся.
На практике наиболее распространённым вариантом переменны сословной принадлежности для детей из духовенства было поступление в гражданскую службу в канцелярские служители до достижения первого классного чина, а позднее — в университеты и другие учебные заведения. (Впрочем, в 1884 году был введён (и некоторое время действовал) запрет на поступление выпускников семинарии в университеты.)
Тем не менее угнетаемое государственной властью и иерархией, презираемое либеральным обществом приходское духовенство в течение синодального периода смиренно отправляло свое церковное служение как само собой разумеющийся долг, не снискав себе за это никакого признания, хотя и вполне заслуженного. Его представители вынесли на своих плечах главный труд по сохранению Церкви, поистине совершив всё, что было в их силах.
Весь синодальный период в верхах православной церкви накапливалось неприятие своего зависимого положения, отнюдь не от "дома Романовых", а от воцарившейся — после дочери Петровой, Елизаветы — Гольштейн-Готорпской династии в лице её первого представителя Петра III. Как писал Кондратий Фёдорович Рылеев о личности своего будущего удушителя, Николая I:
"Царь наш — немец русский —
Носит мундир узкий.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь".
Все выше помянутые, только частично обозначенные сложности и неоднозначности в духовной жизни России привели к тому, что духовенство с начала двадцатого века в отношениях с царской властью перешло из оппозиции пассивной в оппозицию активную, стремясь, освободившись от государственного надзора и опеки, получить возможность самоуправления и самоустроения — добиться идеально желаемой симфонии. В эту пору, уже как активный участник общественной жизни видел, оценивал, принимал участие в происходящих процессах Николай Васильевич Малиновский и тем "матери истории ценен".
Часть восьмая. Семья Малиновских после революции
В 1917 году у супругов Малиновских родился первенец — сын Костя, только год поживший, скончавшийся от скарлатины (по-народному — от "глотошной"). Лекарств от этой детской болезни тогда ещё не было, выживали немногие — "Тоньше паутины из-под кожи щёк тлеет скарлатины смертный огонёк". В те послереволюционные годы, отмеченные не только реками крови гражданского противостояния, но и ему сопутствующими болезнями и эпидемиями, детская смертность, подгоняемая голодом и холодом, была много выше среднестатистической. (Потеряла в это время маленькую дочь Марина Цветаева, в одночасье лишились пары малышей — сына и дочери — супруги Анциферовы, супруги Еремеевы, мною в предыдущих книгах описанные.)
В 1919 году, в Костроме, на белый свет появился второй сын Малиновских, наречённый родителями Львом (в честь писателя графа Толстого). В губернском центре после этого события чета Малиновских пожила ещё год, после чего всем семейным составом переехали к Лух, к родителям Николая Васильевича — жизнь в небольшом городке давала больше шансов на выживание, да и следовало сменить обстановку для молодой супруги, долго не могшей оправиться после потери первенца. Жили в доме стариков, при Вознесенском погосте, располагавшемся в пятнадцати километрах от Луха. Отец Василий, после событий семнадцатого года, возобновил церковную службу, но священствовал недолго — скончался в 1920 году, за ним ушла на тот свет и его супруга.
Здесь, 24 августа 1921 года на белый свет вышел сын Борис. В Лухе он прожил только первый год своей жизни, но сюда не раз возвращался после переезда родителей в недалёкий городок Родники.
"Сомкнутые веки
Выси, Облака,
Воды, Броды, Реки,
Годы и Века".
(Борис Пастернак)
Что до истории Луха, то, побыв недолгое время центром небольшого удельного княжества, сменив несколько владельцев, он в середине шестнадцатого века числился уездным городом, охватывавшим двенадцати волостей, получившим интенсивное развитие после основания на правом берегу одноимённой реки монастыря. В пору Смутного времени (1608 — 1613 годы) город был одним из участников развернувшихся, судьбоносных для России событий — с изменами крестному целованию местных бояр, с верностью русских патриотов всех сословий новоизбранному монарху из рода Романовых, спасённому самопожертвованием Ивана Сусанина, с кровавыми побоищами ополченцев с отрядами интервентов — жолнёрами Лисовского и козаками Сагайдачного.
В результате административной реформ 1798 года, разделившей территорию России на восемь губерний, Лухский уезд вошел в состав Московской губернии Юрьев-Польской провинции, а в 1778 году перешёл в состав вновь образованной Костромской губернии.
В 1785 году, вместе с другими городами Костромского наместничества, Лух получил свой герб, на котором изображена ладья — символ Костромской губернии — на верхнем синем поле и золотая лестница на нижнем червленом поле, "означающая, что сему городу учреждением наместничества даны средства для восхождения наверх своего благосостояния". В царствование Павла ряд уездов Костромской губернии был упразднён, в число которых попал Лух, ставший "заштатным" городом Юрьевецкого уезда.
В 1922 году Малиновские перебрались в недалёкий город Родники, где Николай Васильевич получил работу в местной школе — завучем. Ушли в прошлое занятия церковной историей, краеведением, жизнь требовала обеспечивать разрастающуюся семью (вскоре родилась чаянная дочь Лена), не дать разворачивавшемуся преследованию лиц духовного сословия затронуть его, сына православного священника, но самого священником не ставшего.
Уже действовало "Указание", данное Председателю ВЧК. Дзержинскому ( от1 мая 1919 года за №13666/2) Председателем ВЦИК Калининым и Председателем Совнаркома Ульяновым (Лениным): "Попов надлежит арестовывать как контрреволюционеров и саботажников, расстреливать беспощадно и повсеместно. И как можно больше. Церкви подлежат закрытию. Помещения храмов опечатывать и превращать в склады".
Этот братоубийственный циркуляр действовал чуть более двадцати лет, пока Политбюро ЦК ВКП(б) на заседании от 11 ноября 1939 года (протокол №88) не отменило его: "Признать нецелесообразным впредь практику органов НКВД СССР в части арестов служителей РПЦ, преследования верующих". (Было бы наивно полагать, что преследования и репрессии служителей культа после этого сразу прекратились.)
Соученик Николая Васильевича Малиновского по Костромской гимназии, её выпускник 1909 года, Пётр Лебедев в 1921 году был рукоположен в протоиереи и назначен настоятелем Ильинского храма села Родники и благочинным уезда. Он, человек аскетического уклада жизни, бескорыстный, жил поначалу с семьёй в сторожке, с прихожан денег за требы не брал, за что те выстроили ему безвозмездно дом.
В 1932 году он был арестован, жену с пятью детьми местная власть из дома выгнала. Находясь в заключении, отец Пётр два с половиной года работал в совхозе под Иваново, постоянно подвергаясь насмешкам, издевательствам и оскорблениям. В 1935 году, выйдя из заключения, он вернулся в Родники, продолжил служить в местном храме. Когда власти решили храм закрыть, отец Пётр не побоялся собрать подпись с требованием отменить это решение. В ночь с седьмого на восьмое октября 1937 года он, вместе со вторым священником храма, отцом Николаем Розановым, был арестован; священников расстреляли спустя три недели после ареста, во дворе Ивановской тюрьмы. (26 декабря 2003 года отец Пётр Лебедев определением Священного Синода был причислен к лику "святых Новомучеников Российских для общецерковного почитания".)
Сестра Николая Малиновского, красавица Павла (не по любви — по воле родителей) была выдана замуж за протоиерея, священника Петра Сергеевича Рождественского, служившего в селе Мелечкино Родниковского района в храме Архангела Михаила. Пётр Сергеевич был хорошим хозяином, имел приличный дом, в его хозяйстве были лошадь, корова, сад, огород. Был он оклеветан односельчанином, написавшим на него кляузу, в которой утверждал, что апротоирей недоволен советской властью.
В апреле 1932 года Пётр Сергеевич был арестован, осуждён Тройкой ОГПУ по Ивановской Промышленной области и сослан в Казахстан, откуда его вскорости перевели в Муромский исправительно-трудовой лагерь. Приехавший к отцу на свидание сын не узнал его — выбитые зубы, потухший взгляд, от некогда статного мужчины остались кожа да кости; свидевшись с сыном, он вскоре умер.
После ареста мужа, Павла Николаевна пережила такое нервное потрясение, что ещё долго (как мне рассказывал её племянник Борис Николаевич Малиновский) боялась выходить из опустевшего дома, сторонилась людей. Она попала в разряд "лишенок", людей, вычеркнутых из жизни общества; жила на мизерные средства (мебель и скот были конфискованы). Помогали — деньгами, посылками — разъехавшиеся по стране дети. Только в семидесятые годы церковь назначила Павле Николаевне небольшую пенсию за незаконно репрессированного мужа. (Николай Васильевич помог сестре продать дом в Мелечкино и купить небольшой домик в Родниках.)
Её сына, Анатолия Рождественского, перед арестом отца поступившего в Ленинградский педагогический институт имени Герцена, из вуза отчислили. Жил он на заработки грузчика, перебивался с хлеба на воду, но выжил; после войны устроился на работу в Гусь-Хрустальном, стал уважаемым человеком. (Не смогли, как и Анатолий, получить высшее образование его сёстры — Зоя и Лиза.)
Преследование церковнослужителей, начавшееся с ленинского "Указания" 1919 года, в 1932 году превратилось в настоящий террор после введения в Уголовный Кодекс статьи 58 пункт 1 "контрреволюционная агитация и пропаганда", по которой, на первых порах давали пять лет ссылки, а вскоре — десять, двадцать пять ссылочных лет или присуждали расстрел. Только в 1939 году, после (как позже выяснилось) личного распоряжения Сталина репрессии в отношении духовенства были прекращены, начался пересмотр дел священнослужителей, освобождение тех из них, которых власть перестала считать социально опасными; была свёрнута антирелигиозная пропаганда, закрыт журнал "Безбожник".
В годы войны, после того как отгремели победные залпы Курской дуги, 3 сентября 1943 года был заключён так называемый "сталинский конкордат" между государством и православной церковью, которой (под контролем властных органов) было позволено вольно исполнять свои духовные функции на всей территории страны.
В тот день Сталин вызвал к себе высших иерархов Русской Православной Церкви — местоблюстителя патриаршего престола митрополита Сергия (Страгородского), митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия (Симанского) и митрополита Киевского и Галицкого Николая (Ярушевича). Около двух часов продолжалась беседа о взаимоотношениях Церкви и государства, в которой были затронуты и вопросы подготовки священнослужителей. Митрополит Сергий говорил о необходимости открытия духовных учебных заведений, поскольку Церковь осталась практически без священников и диаконов. "А почему у вас нет кадров?" — спросил Сталин, в упор глядя на своих собеседников. Алексий и Николай смутились... Всем было известно, куда "подевались" кадры. Но митрополит Сергий не растерялся: "Кадров у нас нет по разным причинам. Одна из них: мы готовим священника, а он становится маршалом..." (намёк на выпускника Костромской семинарии, маршала Василевского). Сталин усмехнулся, заметил: "Да, да. Как же. Я семинарист. Слышал тогда и о Вас". Затем стал вспоминать семинарские годы, сказав, что мать его до самой смерти сожалела, что он не стал священником.
О своём отношении к вере Борис Николаевич, потомок священнослужителей, говорит с реалистической ясностью: "Я рос с чувством неприятия церкви, и даже после войны с трудом мог заставить себя зайти в церковь и не для молитвы, конечно, а просто так — посмотреть, как идёт служба. Теперь этого неприятия у меня нет, как и нет того, что называется верой, хотя основы христианской религии я признаю целиком и полностью".
Первое время семья Малиновских жила в доме на Волковой улице, спустя пару лет, после переезда, глава семейства разобрал родительский дом в Вознесенье и собрал его на новом месте жительства, на городской окраине на противоположной стороне от фабричного его района. В примыкавшем в дому коровнике с сеновалом Малиновские завели корову, устроили птичник, разбили сад и огород. Коров держали многие горожане и по утрам, с ранней весны до поздней осени, общее стадо вышагивало по городу на пастбище. Вскоре после переезда родилась у супругов Малиновских чаянная дочь, Лена.

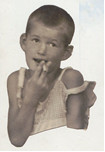
Денег семье катастрофически не хватало. Постепенно скромный запас фамильных драгоценностей взрослые выменяли на деньги в Торгсине. (Торгсином сокращённо именовалось созданная в 1931 году организация, занимавшаяся обслуживанием сограждан и зарубежных гостей, имеющих валютные ценности, которые они могли обменять на продукты питания и другие потребительские товары; действовала до 1936 года.)
В Родниках был свой стадион — с жаркими футбольными баталиями на нём, которые через невысокий забор наблюдали мальчишки; зимой на стадионе устраивали каток с ледяной горкой. Читать братья Малиновские, с помощью мамы, научились рано. Для Бориса любимой книгой стала книга Льва Евгеньевича Остроумова "Чёрный лебедь", "Новые приключения Макара-следопыта", изданная в 1930 году, очерки Виталия Бианки о природе. Позже, записавшись в библиотеку, малолетний Борис запоем перечитал Майн Рида, Жюль Верна; у друзей отца брал читать Джека Лондона. На чердаке дома в беспорядочной груде было свалено много книг, особенно по истории России, психологии, философии (видимо, отец убрал их подальше — на всякий случай, от недобрых людских глаз).
"Мой старый дом, дом детства моего,
Души частичка там живет и ныне,
Калитка с вертушком, распахнуто окно,
Сверчок за печкой, гроздья на рябине".
(Катерина Винокурова-Кошелева)
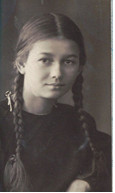
В Родниках братья Малиновские пошли в четырёхклассную школу. Долговязый Лев приступил к занятиям с четвёртого класса — знания предыдущих классов ему, дома, дал отец. Младший, Борис, как он признаётся в воспоминаниях, поначалу учился усердно и неплохо, но с наступлением очередной детской весны стал прогуливать уроки, отдавая предпочтение играм со сверстниками на лужайке за школой.
В центре города располагался "комбинат народного питания" (Нарпит), куда строем водили школьников, кормили кашами — манной или перловой. Открывшийся городской кинотеатре демонстрировал озвученный фильм "Красные дьяволята", американские киноленты. В Родниках малолетний Борис Малиновский впервые увидел аэроплан — поглазеть на него, приземлившегося на пригородном поле, сбежались чуть ли не все горожане. Автомобилей в городке тогда не было, их впервые Борис увидел в Кинешме, куда приехал с мамой по семейным делам…
"Мы незаметно подрастали.
Весь мир нам во владенье дан!
Мы в пионеры поступали,
Мы колотили в барабан".
Лев Малиновский увлёкся моделированием макетов планеров и аэропланов, зачастил по этому поводу в Дом юного техника, делал и запускал в небо маленькие летающие аппараты с "мотором" из жгута резиновых нитей. Отец купи в семью детекторный приёмник, позволивший домочадцам слушать единственную тогда доступную радиостанцию "Коминтерна". Вместе с другими родниковскими пацанами братья Малиновские играли в футбол, гоняли мяч из тряпок (Борис стоял вратарём), катались на велосипеде, купленном им отцом, летом отправлялись в походы за грибами, зимой — на лыжные вылазки. Запомнилась пятикласснику Борису Малиновскому пароходная экскурсия по Волге, с остановками и экскурсиями — от Ярославля до Нижнего Новгорода.
Время подзабытое, из истории практически вычеркнутое — героическое, напряженное, тревожное время! Классовые битвы революции и гражданской войны еще не стали достоянием прошлого, а считались горячим, только вчерашним днём. Индустриализация промышленности сочеталась с НЭП (новой экономической политикой). Первым успехам в социалистическом строительстве противостояли провокационные угрозы международного империализма, пришедшие к власти фашисты в Италии, а затем — в Германии. Невиданный, массовый энтузиазм людей труда подкреплялся постоянной мобилизационной готовностью Советского государства дать отпор врагам революции. Это было время резких контрастов и непримиримых оценок, стремительно менявших всю жизнь, её традиции, весь бытовой уклад:
"Я, помню,
Не жалел под праздник
Ни черной туши, ни белил,
Весь мир на белых и на красных
Безоговорочно делил.
Я знал про домны Приазовья
И что опять бастует Рим.
И я к друзьям пылал любовью
И был к врагам непримирим".
Но было, кроме "высокого" в том времени и подлое, кровавое. В 1928 году на Николая Васильевича Малиновского поступил донос в "органы". Бдительная коллега сообщала, что он, сын служителя культа, спустя рукава проводит уроки обществоведения. В итоге, с Николая Васильевича сняли заведование учебной частью, оставили учителем русского языка и литературы; обидевшись, он покинул школу, перешёл в фабрично-заводское училище Родников.
"Несмотря на все трудности и притеснения, думаю, что отец воспринял выдвинутые революцией идеалы того времени, был патриотом страны, где родился и жил, и в этом духе воспитывал своих детей и многочисленных детей на уроках русского языка и литературы. Ученики его почитали и любили, долго переписывались с ним после окончания школы. Он не поддался культу личности Сталина, как это было со многими. Точнее, учитывая обстановку в стране, он, думаю, был вынужден кривить душой. На собраниях в школе нельзя было обойтись без восхваления вождя, и он понимал это. Но дома не раз, читая газеты, с возмущением говорил о статьях, где превозносились заслуги Сталина", — пишет об отце его сын, Борис Малиновский.
Из соображений будущей безопасности и в видах получения детьми высшего образования Николай Васильевич решил перебраться в Иваново. Вначале уехал один и некоторое время обустраивался на новом месте, преподавал русский язык и литературу в стахановской школе, затем — в общеобразовательной школе, купил плохонький дом.
В 1936 году он перевёз в областной центр семью и сделал это очень своевременно — в Родниках начались массовые аресты учителей. Как вспоминает Борис Николаевич:
"Моего учителя немецкого языка Апольцева, любившего путешествовать по Кавказу, "сделали" турецким шпионом и расстреляли, замечательного учителя русского языка и литературы Грамматина арестовали и отправили в лагерь. Это только те, которых я знал. Но были и многие другие.
Года за два до смерти отец рассказал мне, о чём молчал более тридцати лет. В 1937 г., когда наша семья только что переехала в Иваново, его вызвали в КГБ. Когда он явился в указанный в повестке кабинет, человек, сидевший за столом, удивлённо посмотрел на него:
— Николай Васильевич?! Это вы? — Уходите и никому не говорите, что были у меня!
Бывший ученик имел мужество спасти своего учителя. Так нашу семью миновало лихо 1937 года".
В Иваново братья Малиновские получили полное среднее образование. Старший из братьев, Лев, по окончании школы поступил в Ивановский энергетический институт и два годы отучился в нём, младшему, Борису, только месяц довелось побыть студентом. Всё перерешила война, из всепожирающего пламени которой судилось вернуться только младшему брату.
Часть девятая. Война
В рядах миллионов советских людей, ставших на защиту Родины, была многочисленная её юная поросль — не доучившаяся, не долюбившая, только во взрослую жизнь вступавшая. В их числе были и братья Малиновские.
"Ах война, что ж ты сделала, подлая,
Стали тихими наши дворы.
Наши мальчики головы подняли,
Повзрослели они до поры.
На пороге едва помаячили,
И ушли за солдатом солдат.
До свидания, мальчики, мальчики,
Постарайтесь вернуться назад".
Участию Бориса Николаевича Малиновского в войне с фашистскими захватчиками, вскоре после её начала названной Великой Отечественной и священной, предшествовали два года его срочной военной службы, на которую он был призван в октябре 1939 года, сразу после поступления на горно-электромеханический факультет Ленинградского горного института. Проходил он её в артиллерийском полку, дислоцированном в городе Пушкин, и факт этот подтверждает пожелтевший от времени фотоснимок, на котором он с приехавшими его навестить отцом и старшим братом (над всеми возвышающимся) запечатлены на одном из мостиков знаменитого, прежде именовавшимся "Царскосельским", парка.

Ещё одна встреча Бориса Малиновского с отцом произошла спустя два месяца после начала войны благодаря неожиданному, чудесному стечению обстоятельств. Тогда сержант Борис Малиновский, следуя в эшелоне своего артиллерийского полка через Иваново, получил возможность на два часа вырваться домой, повидаться родителями, сестрой Лёлей, от радости нежданной встречи забывшими поздравить дорогого гостя с его двадцатым днём рождения.. И — что ещё более чудесней — временный тыловой лагерь, куда прибыл его полк, обустроился у Ильина озера (неподалёку от города Горького), где находилось и танковое училище, курсантом которого был Лев Малиновский. Здесь братья получили счастливую возможность в продолжении двух месяцев тесно, радостно общаться и, в заключение, распрощаться — навсегда.
"Им нельзя задержаться, остаться –
Их берёт этот день навсегда,
На путях сортировочных станций
Им разлуку трубят поезда".
Могли ещё раз встретиться братья жарким летом 1943 года, но — того не случилось. Тогда во время наступления на Курской дуге дивизии, в которых служили Борис и Лев Малиновские, сминая врага, двигались навстречу друг другу, но, завершая разгром, разминулись.
Крещение огнём, с выведшим его из строя ранением, сержант Борис Малиновский получил зимой сорок первого года в боях под Москвой. Лечился несколько месяцев в тюменском госпитале, после которого продолжил воевать в составе Северо-Западного фронта, созданного в первые дни войны на базе особого Прибалтийского округа. В ходе оборонительных боев летом и осенью 1941 года войска этого фронта оставили Прибалтику, отступили в район озера Ильмень и городка Демянска, где остановили наступление врага. Здесь фашисты устроили мощный укреплённый район, названный ими "Демяновской крепостью" и семнадцать месяцев удерживали его как плацдарм для ударов по Северной группе советских войск. Всё это время войска Северо-Западного фронта вели перемежающиеся наступательные и оборонительные бои местного значения с вражескими формированиями.
В апреле 1942 года на Северо-Западный фронт, в составе 11-й армии, прибыла 55 я стрелковая дивизия второго формирования (её первое формирование практически было сведено на нет в боях с превосходящими силами противника в первые дни и месяцы войны). Позже, в первых числах мая этого же года, к новому месту дислокации этой дивизии подтянулся её артиллерийский дивизион, в списках которого, вплоть до выхода из боевых действий войны, числился Борис Николаевич Малиновский. Северо-Западный фронт, ещё именовавшийся бойцами "Болотным фронтом", действовал на территории, имевшей мало дорог и направлений, пригодных для действия большой массы войск. Всё её пространство занимали бесконечные топи и болота, бескрайние лесные чащи, с разбросанными и затерянными в них деревушками.
Связывающие войска фронта дороги были грунтовыми, в распутицу превращавшимися в болотное месиво, утопая в котором, бойцы вытаскивали на своих плечах орудия и боеприпасы, другое боевое снаряжение, грузовики с продовольствием. Зимой (а она в тот год было снежной и суровой) метели часто и основательно заносили пути продвижения, так что двигавшимся вперёд войскам приходилось с великим трудом прокладывать траншеи в гигантских сугробах.
В лютые морозы той зимы застывала смазка на тщательно протёртом оружии, ломти хлеба превращались в ледышку, а промокшие валенки, замёрзнув, ломались на ходу. (Оценивая фронтовой труд солдата, русский военный психолог Роман Константинович Дрейлинг отмечал, что "труд, производимый, например, пехотинцем в полном вооружении и снаряжении, превосходит по количеству расходуемой энергии самые тяжёлые формы не только профессионального, но и каторжного труда".)
В таких условиях, природных и фронтового быта, в состоянии постоянного психофизического перенапряжения в составе 84-го артиллерийского полка, входившего в состав 55-ой стрелковой дивизии, воевал на Северо-Западном фронте Борис Николаевич Малиновский.
"Молнией небо расколото,
Пламя во весь горизонт.
Наша военная молодость —
Северо-Западный фронт".
Всё, что причитается фронтовому бойцу, выпало на его боевую долю — всевозможные лишении, различные виды опасности или томительное ожидание их наступления, потерю личной свободы и принудительный характер поведения. Здесь он пережил многое и многих; многому, прежде неведомому, изведал цену и, подобно другим бойцам, жил (точнее — пребывал) в предельном состояниях психики, ломавшейся и перестраивавшейся в условиях войны, — когда смерть становится привычным элементом быта, а ценность человеческой жизни как таковой нивелируется. Жизнь солдата на войне состоит из пограничных околосмертных ситуаций, в которых, как писал Юрий Нагибин, "каждый погибший откупает у гибели другого".
И неизбежное для солдата чувство страха, по-разному проявляющееся на передовой и вне её, пришлось много раз испытать (и побороть) солдату войны Малиновскому, ибо страх, как подсознательная сфера психики человека, является его врождённым свойством, и полностью преодолеть его нельзя, ибо страху в разной степени подвержены все люди, но в сильной — фронтовые солдаты. Совершенно бесстрашных солдат не бывает.
"Если человек провёл на фронте полгода и после этого уверяет, будто никогда не испытывал чувства страха, будто нервы его никогда не сдавали и он не знает, как от испуга бешено стучит сердце и пересыхает в горле, — значит есть что-то в нём ненормальное, сверхчеловеческое, либо он просто лжёт". (Ричард Олдингтон)
Всё это есть в прекрасной мемуарной книге Бориса Николаевича Малиновского "Через огонь, воду и медные трубы", в которой он — спустя много лет после завершения войны — рассказывает о своём боевом пути в рядах 55-ой Мозырьской Краснознамённой стрелковой дивизии. Время не ослабило, а усилило у него горечь от невосполнимых утрат, позволило ему по-настоящему пересчитать раны и ряды товарищей и сверстников — редевшие и восполнявшиеся.
Книга, написанная прекрасным слогом, в форме сборника небольших новел, не только излагает хронику и содержание фронтовых событий, но и являет собой своеобразный компендиум по военной психологии, с точки зрения которой оценивается поведение человека в экстремальных условиях войны, его бытие перед лицом смерти.
И главное психологическое впечатление, которое оставляет эта книга — подтверждение известной мысли, что "характер неизменен" (или — "характер человека — его судьба"). В переложении на язык фронтовых реалий это означает, что все элементы психологии бойца формируются его характером ещё в мирное время, а фронт выявляет их с наибольшей определённостью, акцентируя те или иные качества, связанные с условиями военного времени. В бою находят своё предельное выражение все присущие человеку качества — и лучшие, и худшие.
Наихудшее, страшнейшее из них — паника, проявления которой видел Борис Николаевич, о которой пишет, в том числе анализируя знаменитый приказ, афористично именуемый "Ни шагу назад!" Был он издан 28 июля 1942 года под номером 227 Наркомом обороны СССР в связи с угрожающей ситуацией, сложившейся на Юго-Западном фронте, когда за неполный месяц, с 28 июня до 24 июля, наши войска в большой излучине Дона отошли на восток почти на четыреста километров со среднесуточным темпом отхода около пятнадцати километров, когда потребовались резкие, неординарные меры, чтобы остановить отступление, грозившее гибелью стране.
Приказ №227 устанавливал в армии "строжайший порядок и железную дисциплину", для чего создавались штрафные батальоны, в которых "провинившиеся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости" командиры и политработники могли "искупить кровью свои преступления против Родины". В том же приказе говорилось о формировании "заградительных отрядов", которые следовало поставить "в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникёров и трусов и тем помочь честным бойцам дивизии выполнить свой долг перед Родиной". Можно по-разному, сквозь толщу лет, относиться к помянутому приказу, но нельзя не признать, что он переломил настроение в войсках, дал возможность победить не только в скоро последовавшей битве под Сталинградом, но и в войне.
"Приказ этот запомнился мне, как поворотный пункт в войне: наступление немцев под Сталинградом было остановлено! День за днём мы продолжали следить за сводками. Сталинград не сдавался! Накал боёв стал предельным, мужество защитников города — небывалым. Это был героический пример выполнения необычного приказа, и он сыграл великую роль!"
Помянутый приказ усиливал борьбу с проявлениями паники в войсках, на преодоление которой нацеливал ранее (16 августа 1941 года) изданный приказ №270, обязывавший каждого военнослужащего, оказавшегося в окружении, "драться до последней возможности" и, независимо от своего служебного положения, уничтожать трусов и дезертиров, сдающихся в плен врагу, "всеми средствами, как наземными, так и воздушными". Особой силы давлением на сознание солдат отступающей армии был пункт приказа, гласивший, что семьи нарушивших его фронтовиков будут подвергнуты аресту.
К сказанному можно прибавить, что 5 февраля 1945 года начальник германского генерального штаба, генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписал приказ, призванный исключить панические настроения в фашистской армии и, в том числе, гласивший: "За тех военнослужащих вермахта, которые, попав в плен, совершают государственную измену и за это по имперским законам должны приговариваться к смертной казни, отвечают их родные своим имуществом, свободой или жизнью". Не помогло.
Триста боевых дней, как подсчитал Борис Николаевич, провёл он на Северо-Западном фронте, здесь был ранен, но остался жив, в отличие от многих его однополчан, навеки упокоившихся в древней славянской земле. Её неглубокие недра по сей дней исследуют благодарные потомки в поисках останков здесь погибших бойцов. С ними, положившими жизни свои "ради жизни на земле", памятью своей общается Борис Николаевич Малиновский — среди болотных топей, меж дубов, осин и елей:
"Лес таинственный, лиственный,
весь малиновками освистанный.
То сырой и бодрящий, то молчащий в оцепенении,
потерявший, как усталая рота, равнение.
Все мне чудится: вот сойдутся дубы, и осины, и ели.
И повторят привалов уют.
Над кострами развесят шинели
и домашнее что-то, щемящее запоют".
(Булат Окуджава)
Следующий отрезок боевого пути Бориса Николаевича — Курская битва, занимающая особое место в Великой Отечественной войне, длившаяся пятьдесят дней и ночей, с 5 июля по 23 августа 1943 года. Здесь, у посёлка Поныри, сражались, защищаясь и атакуя, погибали, но не сдавались его однополчане. "С обеих сторон в ней участвовало свыше 4 млн человек, 69 тыс. орудий и миномётов, более 13 тыс. танков, около 12 тыс. боевых самолётов".
Эта грандиозная битва многократно описана в мемуарах, в художественных произведениях, зрительно представлена в кинофильмах. Воспоминания Малиновского прекрасно дополняют и, наверное, завершают весь литературный цикл воспоминаний об этом судьбоносном для советской армии противостоянии с врагом, завершившимся его разгромом и стратегическим отступлением на запад — в сторону фатерлянда.
Преследуя фашистов, бойцы 55-ой стрелковой дивизии прошагали с боями до днепровского водного рубежа почти семь сотен километров. Перешли Десну по понтонному мосту, форсировали Днепр и, закрепившись на песчаных пространствах правого берега реки, у белорусского местечка Деражачи, отбивали яростные контратаки фашистов.
Далее, атакуя и преследуя врага по правому берегу реки Припять, 55-ая дивизия освободила Мозырь. За отважное участие в этой крупной боевой операции, за личные боевые достоинства Борис Николаевич был повышен в звании до "лейтенанта" и награждён орденом Красной Звезды.
"При форсировании Днепра 55-я стрелковая дивизия входила в состав 61-й армии, которая понесла здесь большие потери. После войны, в год 20-летия Победы, в Деражачах был установлен памятник воинам 61-й армии, навсегда оставшимся на песчаных берегах Днепра".
Следующий этап боевого пути лейтенанта Малиновского — бои по освобождению Белоруссии в составе Первого Белорусского фронта, начавшего в июне 1944 года стратегическую наступательную операцию под названием "Багратион". Здесь, в Припятских болотах будто повторились для Бориса Николаевича боевые эпизоды Северо-Западного фронта, здесь он был серьёзно ранен (осколком "прыгающей" мины). После излечения в госпитале Мозыря вернулся Борис Николаевич, осенью 1944 года, в родной полк, уже приписанный (в составе 55-й стрелковой дивизией) к Третьему Прибалтийскому фронту.
С боями, со всеми фронтовыми лишениями гнали на запад (в рижском направлении) врагов ненавистных советские бойцы, однополчане Бориса Николаевича. И каждый из них, предчувствуя скорую Победу, фатально верил, что доживёт до неё, и очередной прожитый на фронте день укреплял эту веру, и не могла поколебать её неизменная потеря боевых друзей, не вернувшихся из боя:
"Почему всё не так? Вроде всё, как всегда:
То же небо — опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода
Только он не вернулся из боя".
Для солдат и командиров 55-й стрелковой дивизии война (точнее — прямое участие в её боевых действиях) закончилась в начале октября 1944 года, когда решением высшего военного руководства дивизия была снята с фронтовой линии, передана в состав Краснознамённого Балтийского флота и, переименованная в Первую дивизию морской пехоты, передислоцировалась в капитулировавшую Финляндию. Здесь, на созданной по решению Советского главнокомандования военно-морской базе Портккала-Удде бойцы "многострадальной" 55-й стрелковой дивизии и встретили День Победы.
Казалось бы такой исход противостояния с судьбой, должен был вполне устраивать Бориса Николаевича, но боль за погибшего, в декабре 1944 года, в боях под Невелем старшего брата занозой впившаяся в его сердце, не оставляла его до последнего дня войны и не оставила в послевоенные годы. (Следует сказать, что как студент-старшекурсник Лев Малиновский призыву не подлежал, но он пошёл на фронт добровольцем. И ещё — летом 1942 года всех недоучившихся студентов вернули из армии в институты, однако Лев Малиновский продолжил воевать.)
В своей книге военных воспоминаний Борис Николаевич Малиновский приводит текст прекрасного, великой психологической силы письма однокурсницы погибшего брата, Галины Сергеевны Градовцевой, любившей его, долго ждавшей его с войны и только спустя много лет после её окончания узнавшей, из письма Бориса Николаевича, о гибели любимого человека:
"…Не могу передать, как потрясло меня Ваше письмо. Оно всколыхнуло всё пережитое, хотя и прошло тридцать лет. Вспомнишь, так и сейчас сердце болит, трудно писать… Десять лет я не выходила замуж, ждала возвращения Лёвы с войны…
Каким я помню Лёвушку? Он был умный, скромный, честный, добрый, тактичный, застенчивый, как девушка, заботливый, как самый близкий. Всегда рядом, но не на виду. Мы, студенты курса, очень его любили. Очень стеснялся своего роста…
…Перед уходом на фронт принёс мне карточку (вместе с папой), сказал:
— Это мой отец, я как-то не успел тебя с ним познакомить…
В последнем треугольнике написал о тех ужасах, которые видел после отступления немцев. Жаловался, что ему мешают длинные ноги, мешают сидеть в танке… Больше от него писем не получала. Ответа на мой запрос в часть не прислали.
…Очень хотелось побывать на могиле Лёвы, буду растить махровую сирень. Он так любил сирень!"
Заключая свой, только контурно обозначенный пересказ о боевом пути Бориса Николаевича Малиновского, хочу вернуться к одному, им в книге описанному жуткому эпизоду, когда 55-я дивизия, после победы в Курской битве гнала врага через Черниговщину к Днепру. По дороге наши бойцы освободили Корюковку, выжженную и опустошённую, названную Борисом Николаевичем в своей книге воспоминаний "Украинской Хатынью":
"Чрезвычайная государственная комиссия по преступлениям оккупантов в Черниговской области позднее установила, что в марте 1943 года гитлеровцы сожгли в Корюковке 1290 домов из 1300 существовавших и уничтожила большую часть жителей местечка. Всего в районе было расстреляно 7640 человек, 1129 — угнаны в фашистское рабство. А за годы оккупации с Черниговщины было принудительно вывезено 41478 человек…
В марте 1943 года гитлеровцы оцепили Корюковку и учинили дикую расправу над населением. Они врывались в дома и расстреливали всех, кого заставали на месте, не щадили не женщин, ни детей. Тех же, кто бежал из горящих домов, ловили и сгоняли на центральную площадь.
В местном ресторане шла попойка. Одуревшие от спирта садисты-эсэсовцы требовали развлечений. И тогда с площади в ресторан стали приводить женщин. Тут же, среди столиков, под звуки губных гармошек, игравших нечто отвратительно сентиментальное, женщин насиловали и убивали. Потом, покинув ресторан, стреляли из автоматов по толпе. Обливали бензином живых и мёртвых и поджигали.
В одну ночь было убито свыше 6700 человек. А тех, кто уцелел в марте, ждала новая ночь ножей и крови в сентябре".
Приведённую выдержку из книги Бориса Николаевича Малиновского хочу дополнить цитатой из книги "Россия в войне. 1941–1945" британского журналиста Александра Верта, всю войну проведшего в Советском Союзе в качестве корреспондента газеты "Санди таймс" и радиокомпании Би-би-си:
"Для Гитлера, Геринга, Гиммлера и Эриха Коха украинцы, как и русские, были "недочеловеками". Говорят, что Геринг однажды сказал: "Лучше всего было бы перебить на Украине всех мужчин… а затем послать туда эсесовских жеребцов".
В 1941 г. его также очень радовала перспектива, что в будущем году в России умрёт от голода 20—30 млн. человек. Кох, представитель самой крайнего направления "недочеловеков", был назначен правителем Украины по настоянию Геринга…
Для немцев Украина была, во-первых (и главным образом), источником продовольствия, во-вторых, источником угля, железа и других полезных ископаемых и, в-третьих, источником рабского труда…"
Эта добавка от английского автора — для беспамятных представителей старшего поколения некогда единой страны и для той части молодой поросли новых державных образований, которые не знают или не хотят осмыслить страшные уроки сравнительно недавнего военного прошлого своих народов и могут позволить себе залить бетоном Вечный огонь, в память погибших предков зажжённый, или выступить в германском бундестаге с оправданием преступлений немецких фашистов.
С точки зрения высокой морали, неизменная, от поколения к поколению передаваемая благодарность потомков своим предкам за достойные, героические деяния их есть показатель уровня нравственности общества, на что старинная русская пословица указывает: "Спасибо тому, кто поит и кормит, а более тому, кто хлеб-соль помнит". И наоборот — невысока культура жизни в том обществе, в котором власть предержащие корректируют в угоду своим политическим интересам историческую память, прививают согражданам, превращая тех в пустопорожних обывателей, полное забвение лучших страниц своей истории, её выдающихся представителей.
Всё сказанное в полной мере относится к оценке событий сравнительно недавнего прошлого, к годам, в которые историческая общность, именовавшаяся "советский народ", защитила, уберегла свою великую страну от уничтожения и порабощения остатков её населения фашистскими захватчиками и, разгромив врага ненавистного, избавила от подобной участи европейские народы.
Подвиг этот — бессмертен и память о нём и как бы ни пытались исказить его ситуативные политики и отутюженное общественное мнение, будет передаваться от поколения к поколению, если не громогласно, то в народных сказаниях, пересказах и, пока существует планета Земля, будет жить в благодарных потомках победителей как этический стержень их бытия.
"Наши мертвые нас не оставят в беде,
Наши павшие — как часовые.
Отражается небо в лесу, как в воде,
И деревья стоят голубые".
Очень краткий эпилог
Пройдя огонь, воду и медные трубы практически полного боевого пути войны, счастливо судьбой отмеченный, — израненный, не искалеченный, боевыми наградами увенчанный — вернулся молодой воин-победитель Малиновский в позабытую мирную тишину, ступил, как и другие (но отнюдь не все!) братья по оружию, под кров пережившего военное лихолетье родительского дома:
"Над всем царила тишина,
А позади была война.
В зеркально чистых сапогах,
В скрипучих кожаных ремнях,
Под звон медалей, блеск погон
Они входили в отчий дом…"
Ещё много послевоенных лет лучшие из лучших представителей фронтового братства определяли нравственный фон общественной жизни. На них, особого закала людей, равнялись, на примерах их боевого мужества и патриотизма воспитывалось подрастающее поколение. Да и сами они, вернувшись с войны, не сидели, сложа руки, наслаждаясь заслуженными славой и покоем, а вместе со всем трудовым народом поднимали из руин страну, наращивали её мощь, трудились во благо сограждан. И в их числе был Борис Николаевич Малиновский, натура целеустремлённая, энергичная, богато — природой и родителями — одарённая.

Вернувшись с войны, он поступил в Ивановский энергетический институт, в котором не только с блеском отучился, но и встретил в его стенах верную и надёжную спутницу жизни, Октябрису Николаевну Аккуратнову — "студентку, комсомолку, активистку и просто красавицу". Далее молодая семья перебралась в Киев, где её молодой глава существенно повысил свой научный интеллект учёбой в аспирантуре, где родились у супругов Малиновских их дети — Лев, Вера и Николай. Здесь Борис Николаевич, увлёкшись вычислительным разделом в быстро прогрессирующей электронике, достиг в новой научно-технической отрасли высоких результатов и был за это заслуженно отмечен всевозможными наградами и званиями, мной перечисленными в начале настоящей новеллы-эссе. Можно только добавить, что свой многолетний путь в науке отметил он авторством (и соавторством) более двух сотен научных работ и изобретений, фундаментальными монографиями по истории советской (и украинской) вычислительной техники.
Одним из собирателей, читателей и толкователей помянутых исторических штудий Бориса Николаевича (и его пожизненным почитателем) является мой коллега по прошлым инженерным трудам Владимир Данилович Осипенко — 1939 года рождения, уроженец села Новосёлки Макаровского района Киевской области. Всякое наше общение, затрагивающее тему совместной работы на производственном объединении "Электронмаш", он неизменно сопровождает фразой примерно следующего содержания: "Саша! Благодаря этим замечательным людям я, сын простого пастуха, имел умственную, хорошо оплачиваемую работу, платил копейки за вкусное и разнообразное заводское питание, получил бесплатно квартиру, был независимым, уважаемым человеком…" ("Замечательными людьми" мой собеседник определяет генерального директора производственного объединения "Электронмаш", легендарного Апполинария Фёдоровича Незабитовского и Бориса Николаевича Малиновского — руководителя научно-конструкторского коллектива Киевского Института кибернетики, разработавшего электронную вычислительную машину "Днепр", с выпуска которой производственная жизнь указанного объединения и началась.)
Начальные знания электроники Владимир Данилович усвоил ещё в школьные годы и развил их до достаточно высокого уровня радиоспециалиста в пору армейской службы. После демобилизации несколько лет трудился на оборонных предприятиях Урала, вернувшись на родину, устроился на завод вычислительных управляющих машин (ВУМ), предтечу производственного объединения "Электронмаш".

Человек цельного характера, высокой порядочности, в делах точный и скрупулёзный, он, благодаря этим внутренним достоинствам, не отрываясь от основной работы, приобрёл среднее техническое образование в Киевском индустриальном техникуме и два высших — в Киевском политехническом институте и Киевском университете. Могу засвидетельствовать — был он фанатично предан своему электронному делу, признавался (в рамках союзного министерства) лучшим специалистом по доводке "до ума" вычислительных комплексов.
Всё это было — да сплыло. Ныне только пустые глазницы окон, да укоренившиеся на крышах корпусов деревца позорят прежнее величие электронного гиганта Украины. В одном из корпусов, где работал Владимир Осипенко, располагается торговый центр. Заходя время от времени сюда за покупками, Владимир Данилович подходит с замирающим сердцем к месту, где прежде стояло его электронное отладочное оборудование. Теперь здесь, за электронными кассовым аппаратом и весами восседает необразованный (и без перспективы на образованность, не по своей вине — по вине новых "хозяев жизни") молодой человек и очень ловко обслуживает покупателей.
"Хотели как лучше, а получилось как всегда". А ведь мог бы сидеть молодой умница и отлаживать отечественные ноутбуки, "айфоны" и прочие "смартфоны"… Недостачи талантов у нас никогда не было! Борис Николаевич Малиновский, давно на украинской земле укоренившийся, его благотворный труд, добавивший ума и обеспечивший достойную жизнь многим согражданам, — одно из немногих тому подтверждений.

Дополнительные материалы
Памяти Бориса Николаевича Малиновского
Академик НАН Украини Александр Васильевич Палагин о своем учителе Б.Н.Малиновском
К 99-летию Бориса Николаевича Малиновского. 2020 г.
Поздравления Малиновскому Борису Николаевичу с 90-летием в 2011 г.
Б.Н.Малиновский. От вычислительной техники к информационным технологиям.
Малиновский Борис Николаевич. Изобретения и инновации. Изобретатели Украины. Издательский центр "Логос Україна". -2010. Том 1. Книга 1. Стр.150